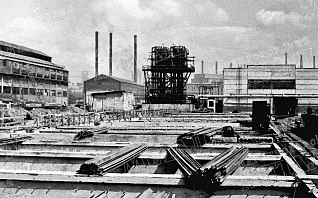Опера стала и первым наименованием фестивальной афиши, подтверждающей международный статус «Вива опера»: увы, в период санкций список стран, из которых к нам могут приехать солисты, сократился в разы, сложности логистики и курс рубля увеличил расходы – поэтому вот уже несколько лет организаторы фестиваля ограничиваются талантами родного Отечества и ближних стран. Так, на партию Альфредо был приглашён солист Большого театра Белоруссии Александр Михнюк. Его партнёрами, кроме солистов, хора и оркестра Магнитогорского театра оперы и балета, стали солистка столичного театра «Новая опера» Мария Буйносова и главный дирижёр Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» Эдуард Дядюра.
Для «Вива, опера!» «Травиата» – спектакль знаковый: именно с него много лет назад начинался фестиваль, проводимый в этом году в 18-ый раз. Можно сказать, с того дня в Магнитогорске началась массовая любовь зрителя к оперному искусству и аншлаги в театре оперы и балета. Такая мощная, что главным подарком к столетию города станет новый современный музыкальный театр, проект которого уже утверждён.
Для приглашённых солистов спектакль также является знаковым: и Александр, и Мария исполняют его с 2017-го года. Но, если для Марии её Виолетта – одна из любимых ролей, позволяющая ей полностью раскрыть вокальный потенциал, то Александр своего Альфреда уж если не любит, то – не совсем понимает.
– Когда пытаешься пропустить персонажа сквозь себя, всегда отмечаешь в нём и хорошее, и отталкивающее, и пытаешься изменить себя «под него» – и в случае с Альфредо это наиболее трудно, – объясняет певец. – Проще говоря: во многом я бы как человек поступил по-другому. Но – там интереснее задача: как профессионал вжиться в роль и исполнить её гармонично. Особенно успешно это удаётся с хорошими партнёрами.
«Травиата» считается одним из самых сложных произведений для вокалистов – как мужские, так и женские её партии. До сих пор специалисты-музыковеды спорят, можно ли назвать оперу бельканто – но все сходятся в том, что, уж если этот термин неуместен по отношению к произведению в целом, то совершенно точно вокальные её партии наполнены «красивым пением» очень щедро. Недаром ведущие солисты мира считают, что роли Виолетты и Альфреда – удел маститых певцов, если можно сказать, итог карьеры, некий аттестат зрелости. Тем удивительнее, что на сценах театров оперы их исполнители всё моложе. Причём, касается этот не только главных персонажей, но и Жермона – отца Альфреда, которого исполнил солист Магнитогорского театра оперы и балета Никита Федотов.
– Виолетта сложна и драматически, и вокально – несмотря на то, что оркестр «окутывает» её не так плотно, – говорит Мария Буйносова. – В «Новом театре» «Травиата» идёт в постановке Аллы Сигаловой, она не классическая, более 20 лет на сцене и имеет большой успех. Ваш театр – третий, который предлагает классическую постановку, не могу сравнивать ощущения – мы находимся внутри, поэтому нам нравится всё. Разве что в «классике» тоньше можно прочувствовать эпоху – благодаря костюмам и декорациям. Но образ от этого не меняется и не должен зависеть от платья.
Мария – певица «по наследству»: её мама была солисткой Оренбургской филармонии, всё детство девочку окружала не просто классическая музыка, а голос великих Архиповой, Образцовой, Вишневской и прочих представительниц золотого мирового оперного фонда. В 15 лет Мария поняла, что хочет продолжить династию, что сделала весьма успешно – она солистка очень популярного в Москве театра «Новая опера», активно гастролирующая певица.
– О Магнитогорске, в частности, фестивале «Вива, опера!» слышала много, в основном, что основными его «поставщиками» являются солисты нашего театра и «Геликон-оперы», – рассказывает Мария. – Так уж получилось, что в «Новой» и «Геликоне» работают певцы, солисты хора, концертмейстеры и даже режиссёр родом из Магнитогорска. С большим удовольствием приехала к вам.
В Белоруссии, в отличие от России, серьёзный оперный театр всего один – Большой. Однако много коллективов – в том числе, народных, в одном из которых пела мама Александра Михнюка. Он с сестрой занимался в музыкальной школе, потом «по накатанной» поступил в музыкальное училище – на отделение хорового дирижирования и даже не представлял, кем хочет стать потом.
– А «потом» случилось, когда услышал Паваротти и «потерялся» в нём, – улыбается Александр. – И другую судьбу не рассматривало – несмотря даже на, как вы правильно отметили, отсутствие театров, где можно реализоваться, помимо Большого, в который стремятся все. Наверное, я везунчик – у меня всё получилось. Но, думаю, если делаешь что-то хорошо и от всей души, то тебя обязательно заметят.
Александр Михнюк тоже активно гастролирует – и по своей стране, и по России, и за «далёкой» границей. Особенно произвели впечатление гастроли по Китаю: и в России публика очень отзывчивая, но в Шанхае – просто «взлетающая с мест» от восторга после каждой арии. На вопрос: не жмёт ли Беларусь в плечах и не пришло ли время искать судьбу в более щедрой на оперные театры России? – отвечает без раздумий: нет.
– Знаете, неважно, где ты делаешь своё дело: это может быть маленький провинциальный театр, Большой, разницы для меня нет. Ты должен делать свою работу качественно везде.
Приезда Эдуарда Дядюры в Магнитогорск театр оперы и балета ждал особенно, и директор Илья Кожевников не скрывал: постарается построить с маэстро и его оркестром совместные творческие планы. Опера, кстати, – не повседневная деятельность Эдуарда Александровича, управляющего чисто инструментальным симфоническим оркестром.
– В среднем оперой дирижировать доводится раз в год, в частности, «Травиатой» «управлял» в Чебоксарах, Ереване, Львове, Днепре… – говорит дирижёр. – Опера – особый жанр и для дирижёра: когда спускаешься в оркестровую яму, выстраиваешь совершенно иной чертёж дирижирования, расширяется диапазон – ты синхронизируешь и ведёшь за собой не только оркестрантов, но и певцов. В Магнитогорске работать было, говоря современным языком, в кайф: замечательный оркестр, профессиональный уровень которого даже удивил, прекрасный хор, потрясающие солисты – и приглашённые, и местные… После первой же репетиции и небольшой корректуры «под себя» я мог спокойно представлять спектакль публике.