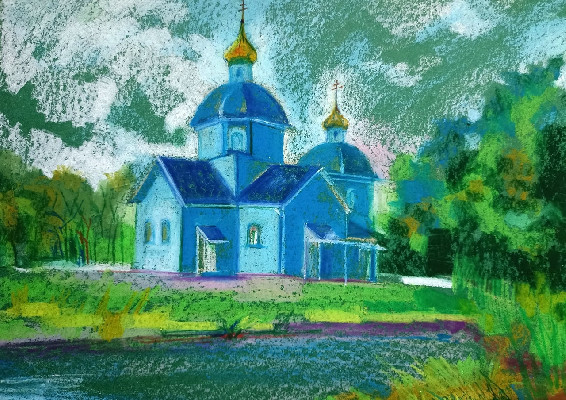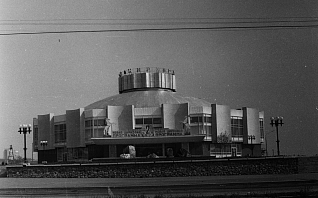Этот вопрос звучал (прямо или подспудно) во многих выступлениях на обсуждении фильма Томаса Винтерберга в городском киноклубе 24 апреля. Это общество ущербных, добрых или просто законопослушных людей? Как близко оно к норме и как далеко от нее, воюя за нее, устраивая, чтобы отстоять ее охоту на невинного человека? О фильме, в которым не виноват никто и одновременно виноваты все, наши рефлексии в постскриптуме…
Трудно найти фабулу более социально заостренную, чем та, что вращается вокруг темы педофилии. Но с учетом того, что никакой педофилии в фильме нет, об обостренной социальности (или специальной социальности) этого кино говорить как-то не хочется. Возможно, педофилия в "Охоте" - это что-то сродни хичкоковскому макгаффину, а "McGuffin is nothing at all". Альфред Хичкок называл макгаффин дыркой от бублика, некой непроясненностью и добавлял еще: "Не важно, что это за вещь; главное, что все хотят ею обладать".
Странно, но в этом кино все хотят, действительно все хотят. Всем важно, чтобы педофилия (о которой нам с самого начала известно, что она дырка от бублика) на самом деле имела место. И пока им - всем - это важно, режиссер разоблачает и обнажает, рвет и мечет, дерется и плачет, молчит и кричит, блюёт обидой и истекает кровью вместе с главным героем.
Почему им всем важно, чтобы педофилия была? Потому что поверить в нее рациональнее, безопаснее, логичнее, спокойнее, справедливее даже, чем не поверить. Социальная справедливость, закон, порядок… - такие ширмы прекрасные. Можно даже не будучи собой, не будучи и наполовину человеком, красоваться под их прикрытием, самому себе нравясь, мол, правый я, справедливый, честный, не мелкий и не ничтожный, хороший, как все… Так проще, чем, ковыряясь в бедной душе, искать поводы и силы простить, поверить, понять и защитить того, на кого объявили законную охоту.
Впрочем, по большому-то счету, в чем вина тех, кто устроил охоту на ведьму, линчевание невиновного? Что отталкиваются от спорных убеждений: ребенок всегда прав, дети не лгут, такое нельзя выдумать в столь нежном возрасте? Что не проверили все досконально, научно, бережно? Что не поверили старому другу, товарищу, соседу… да и элементарной логике? Что в акте предательства и травли зашли слишком далеко?.. В чем вина? Не вижу ее. И задаю другой вопрос: в чем беда?
А беда очень большая, повсеместная, сродни тем бедам, о которых любит, переходя то на крик, то на хохот, то на личности, рассказывать друг Винтерберга Ларс фон Триер. Назовем ее, пожалуй, "мировым злом" (со вкусом апокалипсиса, конечно же). И определение этого зла не педофилия (как страшно звучит, да ведь?), а непонимание, недоверие, разъединенность (звучат спокойно, обыкновенно. Привычно!).
А почему, собственно, спокойно? Почему обыкновенно? Куда делся инстинкт правды, который рождает понимание и доверие, правды, что так проста и пряма (и так доступна юному сыну героя)? Почему чем больше мы пытаемся вникнуть в правду другого, тем больше погружаемся в свою - правильную? Почему соображение правды (мысль о том, какой она должна быть для всех, как выглядит приличнее, приемлемее, законнее) важнее инстинкта правды, что держится, как известно, не на целесообразности, норме и не на справедливости и законе даже, а на милосердии, любви - самом иррациональном, что есть в нас (Толстой назвал бы это "поэзией христианства")?
В дневнике молодого Толстого от 17.II.1858 читаем: "Есть правда личная и общая. Общая только 2 х 2 = 4. Личная - художество! Христианство. Оно всё художество". Общая правда сбивает в стаю, отбирает право принимать решение, освобождает от ответственности и выбора своей усредненной простотой, своей прохладностью, очевидностью, выветренностью… Она как рельсы для "всеобщего расписания" жизни. Катись и не думай.
"Все люди закупорены, и это ужасно" (Л. Толстой. Дневники. 9.XI.1901). Герои фильма, живущие в рамках "всеобщего расписания" жизни, в рамках логики и строгой структурированности отношений (2 х 2 = 4), "в строгом соответствии с установленной процедурой" (буквальная цитата из фильма), в простеньких рамках "общей правды" - всегда выветренной и расхоложенной, уже потому что общей, эти герои не способны понять и принять любовь и поэзию правды главного героя, ее нерасчетливость, нелогичность, жертвенность, неподконтрольность, спонтанность… (как мы не способны понять, почему он остался, живет там и через год, после перенесенного позора. Да потому что простил! Потому что любит. Потому что верит. И девочку несет на руках бережно, и не страшно ему…).
"Мое дело проживать жизнь так, чтобы это была жизнь, а не смерть", - писал Толстой (письмо к Н. Н. Страхову, 1880). В фильме Винтерберга, как и во всех почти фильмах Триера (особенно в "Догвилле" и "Меланхолии"), поставлен ребром, острием, ружьем… вопрос о том, кто мы - мертвые или живые. И какой мир вокруг нас - мертвый или живой. Ведь человек - это всегда весть о нем, о мире. Живая или мертвая. В человеке совершается судьба мира. И пока мы не видим, в упор не видим и не чувствуем того, что сильнее, чем общая целесообразность и справедливость и общая, как 2 х 2 = 4, правда, ни понимание, ни единство не установятся, и кто-то всегда будет под прицелом, возможно, мы все...
P.S. А дети, маленькие копии нас, будут лгать общей ложью, чтобы скрыть боль и страх мертвого - одиночества, непонимания, нелюбви…
Киноклуб "P.S.". Ближайшие премьеры:
8 мая - "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" реж. Терри Гиллиам (США)
15 мая - "Нет" реж. Пабло Ларрейн (Чили, Франция, США)
22 мая - "Девушка и смерть" реж. Йос Стеллинг (Россия, Нидерланды, Германия)
29 мая - "Полный беспредел" реж. Такеши Китано (Япония).