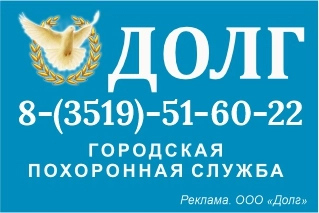Когда читаю Олега Чванова, словно говорю по душам с умным, чутким, наблюдательным собеседником. Он концентрируется на главном, оставляя «за кадром» необязательное. Удерживает баланс между эпатажным самолюбованием и неподдельной самоироничностью. А порой недосказанное им – весомее произнесённого. Кто же это – автор, его альтер эго, рассказчик, лирический герой?
…Стук колёс, запах креозота. Густой железнодорожный чай, секрет которого, говорят, утерян безвозвратно – вместе с искусством неслучайной беседы со случайным попутчиком в тусклом свете плацкартного вагона. Сегодня пассажиры всё чаще отгораживаются от мира наушниками и экранами гаджетов, дистанцируются от чужаков, но… Нет-нет да и перекинешься парой слов с незнакомцем, разговоришься – и пролетит незаметно долгий перегон до станции, где ждут на перроне румяные бабки с горячей картошкой и пирожками с капустой. Вернёшься домой, вынырнешь из водоворота неотложных дел – вспомнишь вагонные споры «за жизнь». Возможно, какая-то из «зацепивших» историй в трудную минуту подарит уверенность: ты справишься, непременно справишься.
«Никогда не разговаривайте с неизвестными», – предостерегает Булгаков в первой главе «Мастера и Маргариты» (16+). Однако сам же Михаил Афанасьевич опровергает этот тезис. И почему дорожные разговоры должны быть исключением? Особенно если повезёт с попутчиком.
Олег Чванов – автор книг, которые стоит взять с собой в дальнюю дорогу. Член Союза российских писателей, дипломант Литературного конкурса имени К. М. Нефедьева (2003), лауреат Премии имени Б. А. Ручьёва (2015) в номинации «Проза», он родился 7 сентября 1965 в Магнитогорске в рабочей семье: мать – дежурная по станции Цемзавод, отец – электрогазосварщик в управлении № 2 «Уралдомнаремонт». В 1984–1986 проходил срочную службу в войсках ВВС, в 1993–1994 служил по контракту радиотелеграфистом в радиотехнических войсках ПВО. В 2001 окончил Челябинский институт путей сообщения по специальности «техник автоматизированных систем управления движением поездов».
Художественная проза для Олега Михайловича – дело, которым он занимается с полной самоотдачей. Литературное творчество совмещает с трудной и ответственной мужской работой, – может быть, оттого так остро ощущается жизненная правда в его текстах. Электромеханик радиосвязи в Магнитогорской дистанции сигнализации, автоблокировки и связи, администратор и старший редактор в Магнитогорской государственной академической хоровой капелле имени С. Г. Эйдинова, электромонтажник в строительной компании «Шаблон»… Ныне он – мастер по обслуживанию электрооборудования ООО «ТЕХНОАП-Инжиниринг» в цехе ремонта металлургического оборудования № 3 ООО «Механоремонтный комплекс» Группы ПАО «ММК».
Первые две книги Олега Чванова изданы под патронажем «Магнитогорского металла» (16+): в 2006 году – дебютный сборник «Рассказ негодяя» (16+) в серии «Литература Магнитки. Избранное», в 2008 – роман «Потомки богов» (16+) в серии «Литература Магнитки. Контекст». В 2018 увидела свет третья и, надеюсь, не последняя книга – «Кое-что…» (18+) – философские эссе.
Не лихо закрученный сюжет или другие «крючки», а именно звучащий за текстом голос побуждает нас возвращаться к любимым писателям. Отличительная черта произведений Олега Чванова – доверительность интонации. Читателю может показаться, что это нон-фикшн – изложение реальных событий. Но зачем тогда у персонажа, от лица которого ведётся повествование, другое имя? Кому-то непременно захочется вступить в диалог с типом, который прячется за буквами – да и прячется ли? «Маска, я тебя знаю!» Но при попытке «открыть личико» неуловимого прозаика оказываешься… перед зеркалом. И ноет где-то слева от экзистенциальной тоски, которую не способна замаскировать лёгкость слога. Мы выбираем, нас выбирают… Можно ли «привыкнуть к несовпаденьям» – в какой бы сфере они ни были? Вряд ли. А вот научиться осознавать и чувствовать, что жизнь продолжается, – куда более выполнимая задача.
В седьмой день осени Олегу Чванову исполнится 60. Но рассказ, который мы предлагаем вниманию посетителей литгостиной «ММ», – настолько «летний», что его хочется опубликовать прямо сейчас. К тому же о хороших писателях надо помнить не только в юбилейные даты.
В ещё не изданных мемуарах Чванова «Там, где я есть» (16+) – глубоко личные переживания, размышления о ключевых жизненных вопросах, колоритные детали быта магнитогорцев. Воспоминания десятилетнего мальчишки о его первой рыбалке – повод для нас, взрослых, задуматься о бездействии и равнодушии, которые оставляют шрамы на детских сердцах.

Первая рыбалка
В первый раз родители отпустили меня в летние каникулы на рыбалку, когда мне было десять лет. Два моих друга, жившие в моём подъезде, были старше меня на два года и уже самостоятельно ходили рыбачить. Я уже купил в магазине «Спорттовары» рыбацкий набор за девятнадцать копеек – катушечку лески с поплавком, грузилом и крючком. Из ветки клёна соорудил удочку.
Наконец разрешение родителей было получено. Игорь, Саша и я чуть свет собрались, сели в трамвай № 14 и вместе с работягами поехали на ТЭЦ. Река Урал разделяет Магнитогорск почти пополам, но в городе как таковой реки нет, а есть большой пруд, из которого металлургический комбинат берёт воду для своих нужд, и в него же, то есть в специальную отстойную систему, сбрасывает воду обратно. Там, где расположена ТЭЦ, сразу на левом берегу находятся рядом друг с другом три больших бетонных выхода, откуда и осуществляется сброс воды мощным и быстрым потоком. Бывалые рыбаки рассказывали, что рыба любит ходить против течения, поэтому на этих сбросах всегда много рыболовов.
На быстром течении ловить рыбу сложно, и мы расположились в месте, где канал выходит в пруд, в устье. Там поток воды замедлялся, а у берега был совсем незначительный. Друзья мои показали мне, как настраивать глубину, как насаживать мякиш белого хлеба на крючок. У них удочки были тоже из веток деревьев, но длинные, а у меня – короткая. Чтобы достать до нужной глубины, мне пришлось снять кеды и трико, но оставить курточку, в кармане которой был хлеб, зайти по пояс в воду.
Саша тягал чебаков и сигушек одну за другой. Игорь заметно отставал в улове и нервничал, у меня ничего не ловилось.
– Как ты насаживаешь? – с огорчением и завистью спросил Игорь у Саши.
– Вот так, – он отщипывал хлеб, но не катал его в шарик, а прямо щепоткой садил на крючок и сжимал пальцами.
Я смотрел на них и слушал, потом повернул голову на свой поплавок, который тут же утонул. Я дёрнул удочку и вытащил из воды сигушку, большую, сантиметров пятнадцать.
– Молодец! – крикнул мне Саша.
Счастливый, я вышел на берег, достал приготовленный целлофановый мешочек, положил туда рыбку, набрал в него воды и, как меня научили, придавил мешочек камнем у кромки воды. Через некоторое время я поймал вторую рыбку, помельче.
К нам подошли двое – парень лет шестнадцати и мальчик, такой же, как я. Они забросили рядом свои удочки. Порыбачили без улова.
– Пацаны, на чё ловите? – спросил парень.
– На хлеб, – сказал Саша.
– А червей нет?
– Нет. Мы только на хлеб.
Они ещё недолго побыли и ушли.
Саша поднял с берега свой мешочек, с удовлетворением посмотрел на него. Взялся пересчитывать рыбок. Оказалось двадцать три штуки. Он высокомерно глянул на Игоря и сказал:
– Пошли домой.
Игорь, скрывая злобу проигравшего, небрежно фыркнул:
– Я ещё порыбачу.
– А ты пойдёшь? – спросил Саша у меня.
– Нет. Я тоже ещё порыбачу.
С двумя рыбками домой возвращаться не хотелось. Саша ушёл. Мы порыбачили что-то около часа. Клёв прекратился. У Игоря было тринадцать рыбок, у меня пять. И мне и ему это показалось достаточным. Смотали удочки и пошли на трамвайную остановку. По дороге нас догнал тот парень, который приходил к нам и спрашивал червей, мальчик был тоже с ним.
– Пацаны, поймали рыбу?
Мы кивнули.
– Покажь.
Мы показали свои мешочки. Он взял их у нас из рук в свои и стал разглядывать.
– Нормально.
Потом достал из сумки свой мешочек с тремя рыбками, пересыпал нашу рыбу в него, улыбнулся, дал Игорю лёгкий, почти дружеский подзатыльник и сказал:
– Ничё! В другой раз ещё поймаете.
И они пошли в сторону остановки. Мы кинулись за ними.
– Отдай нашу рыбу! – кричали мы.
Парень не обращал на нас внимания, а его мальчишка смотрел и молчал. Мы хватали парня за руки, но он вырывался и шёл дальше. Так мы прошли пустырь и вышли на остановку. Людей было мало, но мы увидели взрослого мужчину и бросились к нему за помощью.
– Дяденька, они у нас рыбу забрали!
Дяденька улыбнулся, что-то пробормотал и остался на месте. Он хоть и был взрослый, в пиджаке, но мельче и ниже парня. Тот со своим мальчиком быстро двинулся по тротуару к мосту, туда, где не было людей. Мы бежали за ними и требовали отдать рыбу. У моста парень остановился и ударил Игоря кулаком в лицо. Игорь заплакал, заплакал и я. Даже плача, мы продолжали требовать свою рыбу. Парень огляделся, и они стали спускаться с насыпи к воде. Мы понимали, что идти туда за ними опасно. Место внизу у опор моста глухое и безлюдное. Мы вышли на мост и пешком отправились домой. Пока шли по мосту, плакали, но, когда оказались на другом берегу, успокоились.
У подъезда на скамейке сидел мой пьяненький папа. Увидев нас, он обрадовался. Игорь поздоровался и пошёл в свою квартиру, я остановился возле отца.
– Ну, показывай улов. Сашка говорит, ты рыбу поймал, – папа улыбался.
– У нас её забрал парень, – грустно сказал я.
Папа очень спокойно воспринял моё заявление.
– Ладно, поймаешь ещё.
Да, потом я ловил ещё рыбу, никто её у меня больше не забирал. Только вот этот парень… Помню, он был коротко стриженный, круглоголовый блондин. Пятьдесят лет прошло с тех пор. Может, он и сейчас где-то ходит по городу, а может, уже и нет его. Не бог весть какой грех он совершил. Но всё-таки.