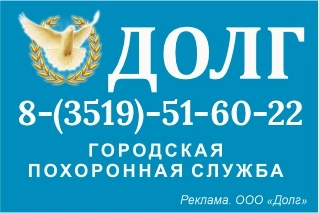Магнитогорцы знают Марию Клименко прежде всего как тележурналиста – но пора познакомить земляков и с другими гранями её таланта. Недавно Марии прислали из Екатеринбурга коллективный сборник (16+), в который вошли произведения финалистов восьмого сезона Международного конкурса малой прозы «Этноперо», организованного Свердловской областной межнациональной библиотекой при поддержке министерства культуры Свердловской области. Название книге дал рассказ, принёсший Марии Клименко победу, – «Операция «Север» (16+).
– Получилась смесь любви – к моей работе, к Северу и его удивительному фольклору, к фэнтези, которое я читала и писала всю свою творческую жизнь, – говорит она.
Мария Клименко родилась Магнитогорске 8 августа 1995 года. Журналист по профессии – в 2018 году закончила магистратуру МТГУ имени Г. И. Носова. Работала в медиагруппе «Знак», на Магнитогорской городской телерадиокомпании. Ныне Мария Сергеевна – корреспондент телекомпании «ТВ-ИН».
В литературных предпочтениях сочетает любовь к высокому фэнтези и русской классике. Пишет стихи и прозу.
– Мои учителя – это, Джоан Роулинг, Джон Толкин, Терри Пратчетт, Глен Кук, Андре Нортон, Клайв Льюис – все те мэтры, на чьих книгах я выросла, – рассказывает Мария Клименко. – Они дали мне понимание того, что фэнтези – это не детская сказка, это литературный феномен, где языком магии можно объяснить, как работают необъяснимые вещи, которые можно увидеть и потрогать только сердцем – дружба, любовь, совесть, добро и даже Бог. Ведь как говорил лев Аслан, ставший прообразом Христа в «Хрониках Нарнии» (6+) Льюиса? «После того, как вы узнали меня здесь [в волшебном мире], вам легче будет увидеть меня там [в нашем мире]». Не для того ли людям нужно оторваться от реальности, чтобы посмотреть на нее под другим углом и увидеть что-то важное? Магия в фэнтези – это призма, отражающая все грани нашей жизни, даже те, которые, казалось, вообще невозможны. И только фэнтези позволяет сочетать несочетаемое – создавать нереальную реальность, совмещать магию и науку, нуарный детектив и светлый любовный роман. И при этом получать истории, не менее жизненные, глубокие и психологичные, чем у любимого мной Федора Михайловича Достоевского, потому что в центре даже самой фантастичной истории всегда стоит Человек. Толкин об этом хорошо сказал в своем стихотворении в эссе «О волшебных сказках» (12+):
Пускай мы спрятали за каждый куст
Драконов, эльфов, гоблинов. И пусть
В богах смешали мы со светом мрак.
Мы обладаем правом делать так.
Как прежде, праву этому верны,
Творим, как сами мы сотворены.
Мария – автор трёх романов фэнтези с элементами научной и социальной фантастики, размещённых на интернет-ресурсах: «Интервью в опаловых тонах» (2023, 18+), «Безумные рубиновые очерки» (2024, 18+) и «Звериный оскал» (2024, 18+) – и нескольких десятков рассказов, в том числе опубликованных в сетевых журналах «Эдита» (16+), «Машины и механизмы» (16+). Произведения Марии вошли в тематические коллективные сборники издательства «Перископ-Волга» «Мистический писатель» (16+) (рассказ «Горят огни Йерушалайима», 16+), «Контакт» (16+) (рассказ «Добро на контакт», 16+), «Настоящие» (16+) (рассказ «Житие кота Фендюлия», 16+) а также в благотворительные сборники (16+) Клуба Имморт-Фантастики.
Творчество Марии Клименко было отмечено на резонансных литературных конкурсах «Новая фантастика», «Бумажный слон», «Пролёт фантазии». В 2024 году Мария стала финалистом Международного конкурса «Кубка Брэдбери», в итоговый сборник (16+) которого вошёл её рассказ «Землетрясение» (16+).
В 2023 году с рассказом «Сказка для Сярати» (16+) она заняла второе место на конкурсе «Этноперо», в 2024 стала победителем с рассказом «Операция «Север». Сборник по итогам вышел в 2025 году, этим летом.
И ещё один штрих к творческой биографии – Мария Клименко вместе с журналистом «Магнитогорского рабочего» (16+), поэтом и прозаиком Натальей Лопуховой и преподавателем английского языка, автором стихов и песен Александрой Вагиной стояла у истоков Магнитогорского литературного клуба, действующего с февраля 2024 года. Она входит в жюри литконкурсов, проходящих в группе МЛК в социальной сети «ВКонтакте» (18+).
Прежде чем разместить в нашей литературной гостиной рассказ (а может быть, мини-повесть) «Операция «Север», приведём выдержки из рецензии кандидата филологических наук, доцента, старшего научного сотрудника топонимической лаборатории Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина Юрия Костылева (Екатеринбург):
«Рассказ «Операция «Север» – очень удачный пример художественного решения проблемы столкновения традиционной культуры народов Севера с культурой современного городского типа. Героем-повествователем произведения становится журналист, отправленный для съёмок на полуостров Ямал. Именно его глазами мы видим особенности ненецкого быта, причём взгляд героя может демонстрировать не только живой интерес и даже восторженность новичка, но и серьёзное, вдумчивое отношение к чужой для него культуре. Выбор этого персонажа на роль повествователя кажется просто идеальным для решения творческой задачи, стоящей перед автором. Герой, как и мы, является носителем городской культуры, поэтому его восприятие событий и ход его мыслей нам понятны и близки. Художественные средства, которыми выражается такой взгляд, оригинальны и остроумны: чего стоит хотя бы сравнение ямальского ветра с электрической сушилкой или включение в текст элементов журналистского жаргона, выражений из реальной разговорной речи…
Элементы кольцевой композиции и неожиданные сюжетные ходы создают интригу повествования и держат читателя в напряжении, превращая рассказ не просто в интересный, а в по-настоящему увлекательный.
Проблематика взаимопроникновения культур и уважительного их друг к другу отношения прекрасно решена автором в том числе и посредством создания отлично продуманной для произведения малого жанра системы персонажей и описания их поведения. Так, с одной стороны, мы знакомимся с «городским» восприятием уклада и традиций ненецкой повседневности с двух точек зрения: заинтересованно-уважительной от героя-повествователя и цинично-скептической, порой даже брезгливой, от его коллеги-телеоператора, причём истина остаётся именно за уважительным отношением к северной культуре. С другой стороны, мы прекрасно видим, что традиционная культура вполне способна к восприятию достижений цивилизации, не затрагивающих её духовных основ: шаман совершенно спокойно может носить пуховик, а вывезти героев из ненецкого святилища можно на катере.
Ход событий рассказа и поведение персонажей мастерски подводят читателя к мысли о том, что только при условии взаимного уважения носителей разных традиций, но без отказа от основ собственной культуры, возможно, их нормальное сосуществование».
Операция «Север»
– Пей.
Он протянул мне чашу.
– Это обязательно? – спросил я.
– Пей, – повторил он. Не требовал, не злился, просто констатировал факт.
Стараясь не думать, что у меня на глазах он вывалил в эту чашу чей-то жир, бог весть что ещё и разбавил оленьей кровью, я сделал три глотка. На вкус это было так же отвратительно, как и на запах, но, если это был единственный способ прекратить всю эту дрянь, что с нами происходила после поездки, то так тому и быть. Я был готов есть землю, только бы всё прекратилось, но физиологию не обманешь, неподготовленному желудку всё равно, какие там высокие цели ты преследуешь.
– Меня сейчас стошнит, – предупредил я.
– Смотри, – сказал он снова и снова начал колотить в бубен. Глухие частые удары сменялись громкими и редкими. Шаман отбивал одному ему известный ритм, а мои глаза начали закрываться сами собой. Ощущение было такое, будто я наелся какой-то запрещёнки. Голова гудела и кружилась, мысли улетали, и, если бы меня спросили, как меня зовут, я бы не ответил, не говоря уже о том, чтобы попросить шамана остановить всё это.
Он предупреждал, что будет непросто, но я и представить не мог, насколько.
– Смотри, – глухо, точно из-под земли, снова сказал он. А может, это я его так услышал.
Бедная обстановка чума сливалась в мутное, чёрное пятно, похожее на кляксу. А потом оно стало разрастаться, тянулось во все стороны, растекалось и светлело, светлело, светлело…
И я впервые увидел то, что уже видел раньше: пустоту и снег…
– Дурацкий снег!
Ежик снова выругался.
Говорят, у северных народов есть больше пятидесяти слов для обозначения снега. У Ежки, как представителя народа южного и столичного, к каждому из них имелась своя характеристика. За время работы он вспомнил столько нелестных эпитетов касаемо местной погоды, что мой словарный запас показался мне таким же скудным, как флора и фауна тундры. Впрочем, я был с Ежкой согласен – погода здесь была та ещё. И ладно бы с ним, со снегом, больше всего меня раздражали ветра, которые дули, как будто из сушилки для рук в общественном туалете, – гудящими и какими-то бешеными потоками они сносили вообще всё, что попадалось на пути: снег, траву, ветки, стаканчики с кофе, кофры, камеры, меня. А от гула в микрофоне не спасали даже «собаки».
– Ну ёлки, блин!
– Ну что «ёлки»?! Палки! Ты это не мне говори, а ветру, вон.
Ежка плюнул и шмыгнул носом. У него, как и у меня, из носа текла вода, а руки были красными, обветренными. Я своих уже не чувствовал: они, по-моему, примёрзли к железному микрофону.
– Ты успел записать хоть немножко? – с надеждой спросил я, молясь всем местным богам, чтобы не пришлось перезаписывать заново.
Стендапы без шапки в минус чёрт знает сколько за Северным полярным кругом – это особый вид искусства, который даётся только самым отбитым.
Таким, как я, дурачкам, болеющим и своей работой, и Севером. Поэтому, когда встал вопрос, кто поедет снимать документалку, я, как пионер, побежал (буквально – побежал) в кабинет к главреду. Пока бежал, думал: а вдруг уже кто-то первый успел записаться в добровольцы? К моему большому счастью, желающих провести три недели на Ямале не было, поэтому уже через три дня я и Ежка, то бишь Олег, стояли на пустыре, хрустели снегом и жёстким мхом под ногами и думали, в какую сторону идти и где нас тут должны были встретить.
Встретили только через полтора часа, когда я начал было немного паниковать и уже собрался звонить продюсерам. Сначала мы услышали звон колокольчиков, а через пару минут увидели, откуда он доносится. К нам подкатил на нартах человек, укутанный в шубу (по-местному – малицу). Мы поздоровались, загрузили оборудование в нарты и тронулись до стоянки. Пока ехали, пообщались немного. Оленевод представился Константином, а на мой вопрос, как его зовут по-местному, с юмором, но строго меня осёк и предупредил: не надо спрашивать. Я и до этого знал, что у них к именам какое-то особое отношение, но и мне, и Ежке, жителям цивилизованным, из тех, для кого обнажёнка на экране уже не была чем-то постыдным, вся эта оккультная ерунда казалась сказкой, которая из жизни даже современного ненца уже давно ушла.
Ан нет, не ушла.
Когда приехали на стоянку, нас встретили немного настороженно, но как-то приветливо. Нам улыбались женщины, в нас тыкали пальцами дети. Наконец к нам подошёл хозяин чума.
Признаться, не верилось, что мы какое-то время будем жить в настоящем чуме. Посреди тундры. Почти без связи. Без удобств.
Ежка, который такую долю не сам выбрал, долго выл и всячески выражал недовольство, но работа есть работа. Хочешь кушать – терпи. Деньги нам за эту поездку обещали немалые, отчасти поэтому он и согласился. Я же был сам готов заплатить, чтобы хоть одним глазом увидеть настоящую тундру, оленей, северное сияние и остальные прелести Севера.
Чум был большим, но не сказать, что просторным – по нашим меркам городских жителей. Внутри теснилась семья из шести человек.
Игней («Игнат, но по-нашему», – рассказал нам с улыбкой глава семейства) был самым старшим в роду, здесь же жил его сын Прохор с женой Варкой и трое их детей. Я в тот момент тут же представил, что бы стало со мной, вздумай я жить с отцом в квартире. Я бы тут же на Север съехал, в отдельный чум. Кстати, собирать его оказалось непросто. Нам хотелось этот процесс заснять, и Игней предупредил: будет перекочёвка, посмотрите. А пока мы с упоением снимали семейный быт и обстановку.
Спали они практически на земляном полу, грелись печкой, а ели порой руками. Традиции мы нарушать не стали и оленье мясо, которое гостю положено отведать первым, брали замёрзшими пальцами.
Я находил в этом безумную романтику сурового Севера, Ежка же – антисанитарию, а когда он увидел, как дети со счастливыми лицами с ножа уплетают мясо только что заколотого оленя и, перемазанные кровью, машут в камеру алыми руками, возвёл глаза к небу и сказал пару-тройку непечатных слов, связанных с деторождением.
За что, кстати, тут же получил нагоняй от одного из оленеводов. «Нельзя, – говорит, – духи услышат».
Хорошо, что потом кочевники не услышали, куда Ежка послал их духов.
А через пару дней съёмок Игней сказал, что мы пойдём в гости к шаману. Вот это понравилось даже атеистически и враждебно настроенному Ежке. Мы с самого начала просились на, как это у них называется, камлание, но на такие обряды не пускали даже «своих», чего говорить о заезжих, ещё и с камерой. А тут вдруг пригласили.
Признаться, я думал, что сейчас увижу обвешанного рогами, перьями и прочими частями мёртвой живности чудака, отплясывающего возле костра. Когда мужчина в пуховике встретил нас возле чума, я подумал, что это какой-нибудь приезжий, который лечиться приехал, скажем, из той же Москвы. Но это и был шаман, он представился Петром и повёл нас в своё жилище.
И в первые же минуты мы чуть не навлекли на себя его гнев.
– Не трогай шесты, – рявкнул он на Ежку, потянувшегося к опорам, – примета плохая!
Ежка незаметно фыркнул, но руки убрал.
По стенам, если можно назвать стенами натянутую на палки шкуру, была натянута верёвка, на ней соседствовали пучки трав, кости, перья, полотенца и целлофановые пакеты. Пётр определённо рушил моё представление о магических практиках и шаманстве.
Он заварил чай, и мы взялись за интервью. Пётр, в отличие от многих, говорил очень складно, чётко проговаривал слова, а когда я сделал ему комплимент, улыбнулся и сказал:
– Я тоже как вы, только с духами. С ними так говорить надо. Голос иметь надо. Без голоса хорошего не услышат.
Петру было пятьдесят четыре, из них тридцать лет он шаманствовал. На вопрос, что это значит, ответил просто:
– Помогаю. Лечу. Судьбу говорю.
– А мне скажете? – спросил я. – А мы снимем этот процесс.
– Скажу, но снять не надо. Плохо это для духов.
Ежка расстроился, да и я тоже, но умолять Петра было бесполезно. Нет – значит нет.
Он показал нам бубны – большие, маленькие, из костей, из дерева, обтянутые кожей. Все Пётр делал сам. Показал и свой шаманский костюм, от которого Ежка пришёл в дикий восторг и попросил примерить.
Чувство испанского стыда, которое я тогда испытал, я ещё долго вспоминал при каждом взгляде на Олега. Наверное, трудно винить человека в том, что он далёк от понимания чужой культуры, но за демонстрацию собственного бескультурья стукнуть его мне очень хотелось. После посещения чума шамана на этой почве и случилась наша первая серьёзная ссора.
Помирились мы по пути на Вайгач. Священный остров показался мне пустоватым, мы побродили с камерой практически бесцельно, запечатлели идолов, с которыми Ежка сделал около десятка селфи. На мои протесты он внимания не обращал. И всё было спокойно и даже скучновато до тех пор, пока мы не начали искать дорогу назад. Пристани, куда мы приплыли на маленькой моторке, просто не было. Ну не было и всё тут.
– Сюда же причалили, – бухтел Ежка.
– Сюда.
– Увёл, что ли, кто-то? – Ежка закурил.
– Да быть не может.
Я оглядывался по сторонам, думал, может, лодку унесло куда. Но нет же, там специальный был столб, мы сами эту лодку туда привязали. Кроме того, я понимал, что это место мне не знакомо. Не были мы тут. Галька какая-то странная под ногами, которой точно не было, когда мы причалили…
– Давай ещё кружок сделаем, – предложил я. – Всё лучше, чем стоять и мёрзнуть.
На третьем круге мы с Ежкой испугались. Пока ходили, наткнулись на какое-то странное место – несколько деревьев, на которых были привязаны ленточки из кожи, какие-то мешочки, а к стволам прикручены рогатые черепа.
– Жуть какая, – прокомментировал атеист Ежка. Но мы засняли это местечко, я сказал пару строк в камеру про святилища, и мы тронулись дальше.
– Давай спасателей вызывать, – Ежка бросил под ноги окурок, когда мы в очередной раз не нашли лодку.
Я достал телефон. Связи не было.
Телефон не работал. Включаться не хотел.
– Давай к Семиликому вернёмся, – сказал я медленно.
– К кому?!
– К идолу, с которым ты фоткался. Оттуда вид нормальный. Ты помнишь, с какой стороны мы к нему подошли? Спереди или сзади?
– Спереди вроде, – неуверенно сказал Ежка.
Мы вернулись на вершину. Идолы встретили нас ледяным безмолвием и тихо качались на ветру, скрипели, будто подпевали морю. Глядя на волны, на сам остров, я вспоминал всё, что знал про эти края, и прежде всего про богов, которым поклонялись люди, живущие на краю мира. Да, они знали о православии, исламе, буддизме, но сама мысль о том, что бог может быть только один, многим была непонятна. Они не понимали, как это: не слышать предков, не верить в то, что у всего в этом мире есть душа. Им, северянам – настоящим северянам, – было мало одного бога, чтобы справляться с трудностями, из которых состояла их жизнь. Что мы, живущие в квартирах со всеми удобствами, интернетом и телевизором, можем знать о настоящей жизни? Мы за всем этим себя-то слышать перестали, а тут ещё поди заставь услышать каких-то там предков. Не докричатся через наушники…
Пока я медитировал на волны, Ежка ходил кругами, пытаясь поймать связь. Стемнело.
– Нет, ну это совсем уже атас. Я жрать хочу, – прогундел он наконец.
У меня даже сил не было ему ответить.
А ещё мне было хорошо здесь. В тот момент я действительно понял, насколько устал. Устал от всего – от большого города, от информационного мусора, который я вольно или нет впускаю в свою голову. Там места не остаётся для чего-то другого, что может быть созидательным и настоящим. Мультики одни. Вот тут, на этом острове, под этими деревянными идолами я бы поставил себе чум, сделал бы бубен и колотил бы в него на каждом рассвете.
Нас забрали спустя ещё час. Было почти совсем темно. Никита, один из оленеводов, прикатил к нам на катере. По дороге мы рассказали ему эту историю.
– Духи вас запутали, – сказал он серьёзно. – Что-то вы такое сделали или должны сделать, что они отпускать не хотели.
– А что там за место с черепами? – спросил я. Никита помолчал, а потом сказал:
– Не помню такого места на Хэбидя-я.
Мы с Ежкой переглянулись.
– Вы ничего оттуда не брали? – слишком уж серьёзно спросил Никита.
Мы заверили его, что нет.
В последний день нашей поездки случился отвратительный по всем параметрам снегопад. Я сто раз пожалел, что оставил запись пары стендапов на потом, и теперь раскаивался, стоя на промёрзлой земле и качаясь от сильного ветра.
– Ты успел записать хоть немножко?
– Да успел, успел, – отмахнулся Ежка.
Провожали нас всей толпой. И наша приёмная семья вручила нам с Ежкой подарки: пояса и костяные тотемчики. На Ежкином был выбит волк, на моём – кит. Мне показалось это несправедливым, потому что волков я однозначно любил больше, но дарёному оленю – в моём случае киту – в зубы не смотрят, поэтому молча отправил подарок в карман.
– Ну, хоть побрякушки дали, – сказал Ежка уже в вахтовом самолёте, на который мы сели в маленьком аэропорту.
– Не побрякушки. Это для них священные вещи, – сказал я, трогая в кармане кита. Он был гладкий, приятный на ощупь.
– Ой, – Ежка отмахнулся. – Не начинай, а?
– Ты в их религию не веришь, это твоё дело, но уважать-то надо.
– Кому надо, пусть тот и уважает. Для меня жрать сырое мясо и поклоняться деревянным развалинам и черепам – это полный бред. На вот, – он протянул мне тотемчик с волком. – Живи и помни.
А потом устроился в кресле.
– Меня не кантовать. Как прилетим, разбуди.
– Если сам не усну.
Всю дорогу я слушал храп Ежки и ещё десятка вахтовиков, а в голове столько мыслей было, что я не мог, как изначально хотел, начать складывать отснятый материал хоть в какую-нибудь логическую историю. Мне хотелось рассказать сразу обо всем: как Ямал впервые встретил нас холодным ветром, как мы ехали на нартах, как впервые вошли в чум, увидели шамана, попробовали оленину (я – сырую), как заблудились на Вайгаче. Хотелось рассказать об этих верованиях, традициях… И при этом уложиться в положенные сорок минут. Мне это казалось невыполнимой задачей, потому что из интервью с одним только Игнеем мог получиться тридцатиминутный фильм, а я писал всех. Всех подряд. Ежка плевался, а мне было интересно послушать Варку, которая показывала, как шить пимы, охотников, которые резали оленя, Петра, который всё-таки «посмотрел» меня.
Я всё вспоминал его обряд. Он не был похож ни на один из тех, что я представлял. Пётр не прыгал с бубном. Он просто взял его в руки, сел на низкий стульчик, мне велел глаза закрыть, а потом медленно стал бить. В темноте я услышал слова, которых я не знаю, на языке, который я никогда не слышал. Пётр пел, и пел так, как, мне казалось, должен петь Север. Раньше, думая о шаманских обрядах, я представлял вибрации варгана, протяжные напевы и вскрики, но в этих звуках мне слышалось всё разом, хотя не звучало ничего подобного. А ещё я слышал шум моря, гул ветров, фырканье оленей, скрип снега под ногами. Потом стал чувствовать свежесть, аромат трав, чая, кипящего в котелке мяса. То ли сон, то ли правда – не знаю, но когда Пётр закончил, я с трудом открыл глаза и вернулся в реальность. Мне правда понадобилось время, чтобы понять, где я и что вообще происходит.
– Уснул ты, вот и всё, – фыркнул потом Ежка.
Но я знал, что это не сон. И Пётр тоже мне сказал. Ты, говорит, с духами ходил, не все это могут. У меня от такого заявления мурашки побежали.
А после Вайгача я и вовсе понял, что что-то меня к этой земле приковало. По-хорошему так приковало, как к родным местам, как к дому. Меня даже пробрало немного, когда самолёт взлетал.
Вся чертовщина началась уже после приезда. Во-первых, когда я взялся отсматривать материал, я обнаружил, что на кадрах, где мы снимали задний двор возле шаманского чума, нет звука. Пётр рассказывал нам о сотворении земли и о верховных божествах. Претензии я предъявил Ежке, но тот отмахнулся:
– У тебя там километры материала, выберешь что-нибудь. Я писал звук. Из-за этого долбаного снега, может, полетело.
Спорить было бесполезно. Я расстроился так, что не мог нормально работать. Но это было только начало.
«Во-вторых» огорчило меня ещё сильнее, чем «во-первых».
Наше путешествие на Вайгач начиналось с кадров на лодке и заканчивалось тем, как Никита спас нас, голодных и холодных, с острова. Уже на катере я записал стендап. Была лодка, была наша высадка, пара планов общего вида, был мой стендап в темноте. И всё. Ни идола, ни наших прогулок, ни священного места – ничего! Вообще.
Меня взяла такая досада, что я всерьёз психанул и высказал Ежке всё, что я о нём думаю, безо всякой цензуры. На мои вопли сбежалась половина студии, а я разогнался до хрипоты и дрожащего голоса. Ну это надо быть таким идиотом?
Ежка блеял и оправдывался, но мне было противно слушать его оправдания, которые злили ещё больше, особенно когда я вспоминал, с каким лицом он ездил по Северу.
В итоге, накричавшись всласть, я пошёл домой и напился. Первый раз в жизни, за все свои двенадцать лет работы, я надрался как свин – так обидно было.
С Ежкой я не разговаривал месяц. И не пересекался с ним. Правда, нет-нет да вспоминал, глядя на тотемчик – тот самый, с волком, который я поставил себе на стол. Свой, с китом, я носил в кармане. И его-то я и сжал до синяка на ладони, когда услышал от Динары, моей коллеги, что Ежка разбился в машине по дороге на съёмку.
– В смысле?
Мы всегда задаём глупые вопросы, когда слышим то, что нас удивляет. Тут важен не сам текст вопроса, а скорее желание показать, что ты не веришь в сказанное.
– В прямом, – сказала Динара. – В реанимации. Там у него какие-то жуткие травмы. И позвоночник, и всё на свете.
Я сел обратно в кресло и тупо уставился на тотемчик. А потом спросил, где конкретно лежит Ежка, забрал тотем и поехал в больницу.
Пустить меня к нему не пустили – я не родственник, но в это время с Ежкой была его тётка. Она нам телемост по соцсети устроила.
– Вишь, какое дело, – слабым голосом прошелестел Олег.
Называть его Ежкой – этим дурацким прозвищем – теперь язык не поднимался. Лицо у него было в синяках, губы едва двигались.
– Ты как?
Ещё один дурацкий вопрос, чтобы заполнить тишину. «Я не знаю, что сказать, но сказать очень хочется», – вот, что означает это «как ты?».
– Лежу. Ног не чувствую, – горько усмехнулся Олег.
– Как вышло-то? – спросил я, чувствовал, как срывается голос.
– Да как… Ехали, ехали, а потом упырь на встречке зачем-то решил на обгон пойти. И мы там перестраивались.
– Лобовое?
– Почти. И знаешь, что самое-то смешное? На Жеке почти ни царапинки. А я, как назло, на первое сиденье сел, где ты обычно сидишь.
Я вздохнул.
– Что за съёмка-то была?
– Да трассы какие-то открывали.
У меня похолодела спина. Я отказался от этой съёмки буквально за пару дней до того. Я кричал и ругался, говорил, что не успеваю с фильмом и мне плевать, что ехать некому. И ребята решили послать одного оператора.
Олег вздохнул мне в ответ.
– Может, – вдруг сказал он, – и прав ты был со своими приметами. Не надо было эту штуку дурацкую брать.
– Какую штуку?
– Тотем этот.
Я вытащил его из кармана.
– Отдавать не надо было.
– Не-е, – вдруг отмахнулся Олег. – Я не про этот.
– А про какой?!
– Помнишь, мы в это заколдованное место пришли на Вайгаче? Там полно всяких черепушек валялось мелких. Ну, я и взял одну по приколу.
Я тупо смотрел на Олега, не понимая, что я хочу сделать: испугаться, накричать на него или посочувствовать.
– Духи недовольны, – улыбнулся он. Вернее, постарался улыбнуться.
Всю следующую неделю я общался с Олегом – так же, по соцсети, а в голове зрела мысль, которая не давала мне покоя. Последней каплей стало заключение врачей, которое Олег прочитал мне едва ли не в слезах. Много длинных слов, но суть одна: на ноги он, с вероятностью в девяносто процентов, уже не встанет.
– Олег, где эта штука, которую ты подобрал? – спросил я, когда мы снова созвонились.
– Дома где-то валяется, а что?
Я подумал, собираясь с мыслями.
– Как мне её забрать у тебя?
– Зачем?!
– Надо. Скажи тётке, пусть меня в квартиру пустит, я при ней найду.
– Я скажу, она принесёт, – сказал ошалевший от моей просьбы Олег.
– Нет, не надо эту штуку никому трогать. Я сам.
Я правда не знал, что из этого получится, но оставить Олега вот так я не мог. Мы не были друзьями, но в тот момент мне казалось, что я единственный, кто знает, как можно помочь Олегу.
На Ямал я отправился своим ходом. Чудом выпросил месяц за свой счёт и сел на поезд. Это дольше, чем на самолёте, но я хотел добраться любыми путями. Уже в дороге созвонился с координатором, что курировал нашу съёмочную группу, и договорился, что он поможет мне найти наших кочующих друзей – Петра, Игнея и иже с ними. Всё это время я думал о том, что лежит у меня в обувной коробке, завёрнутое в неимоверное количество тряпок. Зачем Олег вообще подобрал такую гадость? Это был маленький, размером с мячик для пинг-понга череп. Кому он принадлежал, я так и не понял, но он был разрисован какими-то символами и рисунками. Что они означали, понимал только тот, кто их нарисовал. А единственное, что понимал я, – это надо положить на место.
Мне повезло. Снова. Я нашёл их относительно быстро. Игней встретил меня, как члена семьи, а когда узнал, что я приехал к Петру, тут же отвёл к его чуму.
Пётр сидел у входа возле сложенных горой шкур и точил кость. Наверно, это он в прошлый раз вырезал нам тотемы.
Разговор вышел долгим.
– Плохо, – выслушав меня, сказал Пётр. – Разозлился на него Нга. Наверно, его святилище было, а друг твой забрал у него душу.
– Надо вернуть, – сказал я. – У меня с собой, я привёз.
– Толку нет, – отрезал Пётр. – Тут дело в том, что он уже взял, что на себя набрал.
Я посмотрел на Петра умоляюще.
– Что делать-то?
Шаман задумался, глядя куда-то сквозь меня, взгляд его остекленел, а когда вышел из этого состояния, сказал:
– Надо просить Нга. Чтоб вернул здоровье. Чтоб не гневался.
– Как просить?
– Туда отправиться, вниз, к нему в мир. В подземный.
У меня всё перевернулось внутри. Мне, жителю столицы, мира, где люди могут жить в космосе и осваивают аэротакси, предлагают путешествие по мирам. Я ощутил себя персонажем компьютерной игры.
– А как отправиться? Вы отправитесь?
– Не, – сказал Пётр. – Я не пойду. Я не смогу… – он запнулся, подбирая слова. – От души не смогу. Я не простил его ещё. А ты сможешь.
– Что смогу?
– Попросить за него. Уговорить духов. Ты говорить умеешь, вот и скажи.
У меня голова пошла кругом.
– Тут вот какое дело, Пётр, – я замялся. – У меня опыта нет.
– Это не важно, – ответил он. – Я подскажу. Делай, как я скажу. Будешь?
– Это опасно?
Пётр пожал плечами.
– Ясно-понятно.
Я задумался. Вспомнил Олега, его лицо с синяками, беду, которая свалилась на него из-за глупости. И уж не знаю, что это было – неведомая сила или просто внутреннее убеждение, программа, которая сработала в подсознании Олега, но оно притянуло беду. И если её можно отвадить…
– Ладно, – сказал я.
– Ладно – так ладно. Жди.
Петра не было около часа. Всё это время я разглядывал бубны – маленькие, средние, большие. Один – тот, в который Пётр бил, был украшен черепом, маленькими рогами, перьями. Мне захотелось взять его и начать бить. Бить и взывать к духам, как бы это ни делалось.
В чуме становилось жарко – печку Пётр раскочегарил так сильно, что я разделся. А когда пригляделся и понял, что делает шаман, меня стало мутить. В этот момент он взял чашу и поднёс её мне.
– Пей.
Он протянул мне чашу.
– Это обязательно? – спросил я.
– Пей, – повторил он. Не требовал, не злился, просто констатировал факт.
Стараясь не думать, что у меня на глазах он вывалил в эту чашу чей-то жир, бог весть что ещё и разбавил оленьей кровью, я сделал три глотка. На вкус это было так же отвратительно, как на запах, но если это был единственный способ прекратить всю эту дрянь, что происходила после поездки, так тому и быть.
Я был готов есть землю, только бы всё прекратилось, но физиологию не обманешь, неподготовленному желудку всё равно, какие ты там высокие цели преследуешь.
– Меня сейчас стошнит, – предупредил я.
– Смотри, – сказал он и начал колотить в бубен.
Это видение было быстрым и длилось целую вечность, и когда оно довело меня до «здесь и сейчас», тут же погасло. У меня было чувство, что я остался в полнейшей темноте, но при этом вокруг было светло. Полная дезориентация.
И тут я понял, что сижу на спине огромного кита. Он медленно, почти незаметно двигался вниз. Я чувствовал его движения, слышал, как поднимается и опускается его хвост, но взглянуть не решился – внизу больше не было темноты, там была глубина.
Морская глубина.
И я понял, почему вселенная сделала так, что под толщу не попадает солнечный свет, сквозь прозрачную воду люди не видят и не осознают эту глубину. Смотреть в неё – все равно, что стоять наверху какого-нибудь дубайского небоскрёба и глядеть вниз.
Это завораживает и одновременно ужасает настолько, что перестаёшь осознавать само понятие ужаса. Ты им становишься.
Кашалот опускался всё ниже, ниже.
Я разглядывал морских тварей, которых не видел никогда. Они проплывали мимо, огибали нас, как волны – волнорез или нос крейсера.
Сколько длилось это путешествие? Не знаю. Мне подумалось – целую вечность. Но это потом, а в момент этого путешествия я вообще не думал и не осознавал ни страха, ни времени. Тут ровным счётом не было вообще никаких чувств, только покой.
Мы спустились ниже, ещё ниже. Так низко, что воды кончились, и началась глубина земли. Мы скользили сквозь неё, вонзались, как бур. Глубже, ниже – до самого сердца земли. Я начал слышать голоса, какие-то звуки, они становились все громче…
А потом я увидел его.
– Как себя чувствуешь? – спросил шаман.
Я приподнялся – лежал на шкуре, на полу. Голова гудела, а тело болело так, будто я сутки проторчал в спортзале. И самое интересное, что я в тот момент вообще ничего не помнил. Последнее, что осталось в памяти, – я захожу в шатёр. А ещё была мысль о том, что я должен что-то сделать.
Пётр дал мне выпить – уже нормально и по-настоящему. Судя по вкусу, это была какая-то настойка из морошки.
– Нормально вроде. Что это было?
– А это только тебе знать, – сказал шаман.
Я посмотрел на Петра, на обстановку в чуме. Когда я наткнулся на коробку из-под обуви, меня осенило.
– Можно, кто-нибудь меня отвезёт на Вайгач? Надо всё-таки вернуть череп.
Пётр внимательно посмотрел на меня и кивнул.
Ночевать я остался в чуме у Петра. Наутро меня полоскало так, что мама не горюй, но днём я отправился на Вайгач. Сначала – на вездеходе, потом – на лодке, и вот я снова перед взором Семиликого.
Море пенилось и шипело, билось в берега, ветер подхватывал брызги и разносил по острову.
Я вздохнул и, положив череп к подножию идола, отправился обратно к лодке. Мне очень хотелось оглянуться, но не мог – мне запретили.
– Так что это всё-таки было? Сон или не сон? Можем ли мы говорить, что там, на Севере действительно есть какая-то сила?
– А почему нет? Если мы во что-то не верим, это не значит, что этого не существует. Тем более, если речь о сакральных местах с историей старше всего человечества.
– Хорошо, и что потом? Ваш коллега поправился?
– Когда я возвращался в столицу, написал Олегу, чтобы тот удалил фотографии с идолами. Он, на удивление, не стал спорить. Позвонил он мне сам. Сказал, что реабилитация много времени займёт, но, вроде как, шансы есть.
По приезде я, наконец, увидел свой фильм, который показали уже после моего путешествия.
– И после него вы и закончили карьеру в этой сфере. Почему?
– Я не считаю себя великим режиссёром или журналистом, но я увидел в этом фильме свой творческий потолок. Почему-то мне казалось, что ничего круче я уже не сниму, не напишу.
Может, об этом говорил Пётр, когда после камлания рассказал мне о разочаровании, которое придёт в своё время? Не знаю.
Тотем я Олегу вернул. Свой же оплёл шнурком и повесил на шею.
А через год я снова ехал на Ямал. В Салехард. Я не смог бы стать кочевником – для этого надо родиться в чуме. Я родился в городе, менять свою природу я не собирался, иначе Север сломал бы меня. А мне хотелось, чтобы он меня воскресил, заставил жить заново, уже так, как я хочу.
Но я не раз встречался со своей приёмной семьёй, пару раз даже перекочевал с ними, съездил в одно из святилищ.
– И последний вопрос: а почему именно научную сферу деятельности выбрали?
– Что ещё даст такие возможности для изучения Севера? Это уже не просто фильмы, это рассказы о том, что уже изучено, о том, что изучается сейчас, и то, что только будет изучено. Это открытия в прямом эфире.
Ведущий ещё раз представил меня зрителям. Я всё ещё странно чувствовал себя под прицелом камер, в другой, незнакомой мне роли. Интервью вызывали лёгкое чувство ностальгии. К тому же я всегда испытывал муки совести из-за того, что позволял себе немного врать, отвечая на вопросы, которые у всех был одинаковы. Почему на Север, почему наука, почему бросили профессию… Я говорил то, что они хотели услышать, – плавали, знаем. А отвечать честно мне не хотелось примерно по той же причине, по которой северяне не называют своих имён незнакомцам. Север таинственен, Север сакрален, Север уникален. Я понял это и влюбился в эти края.
Север стал моим домом. Теперь уже навсегда.