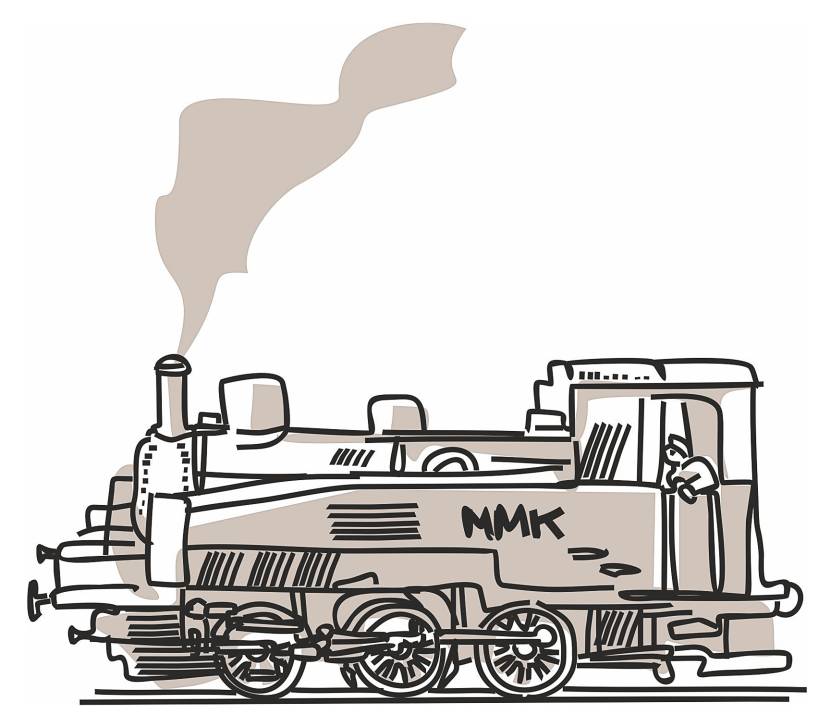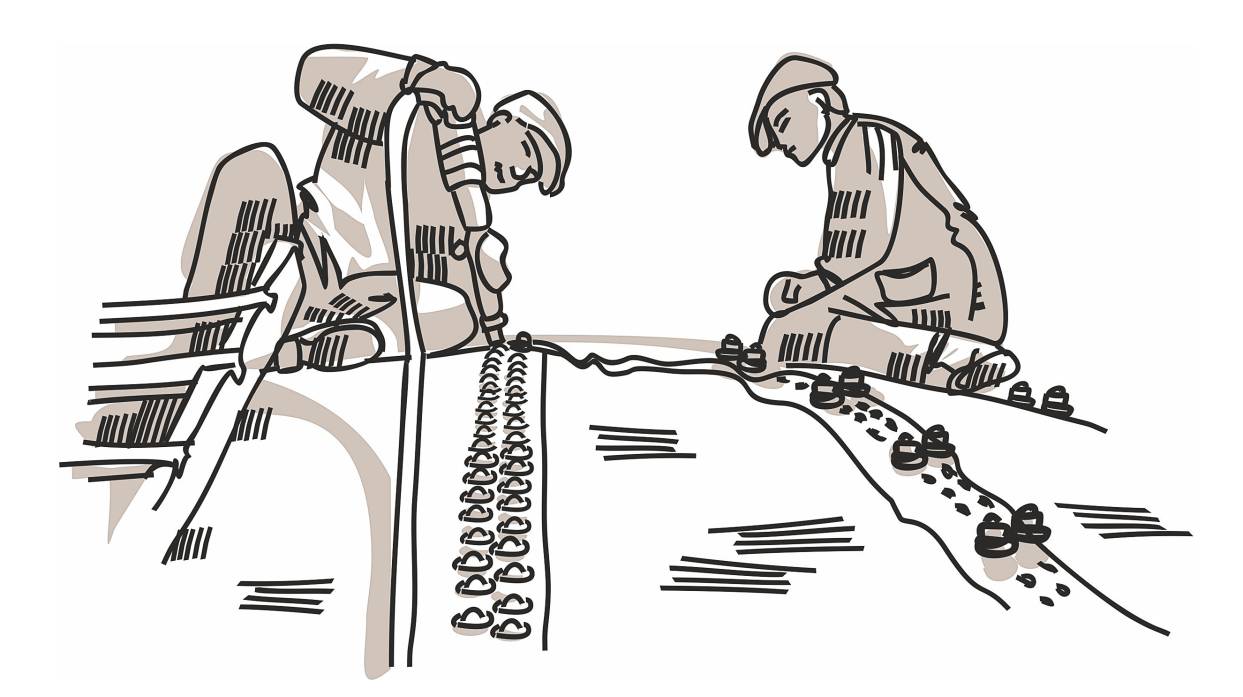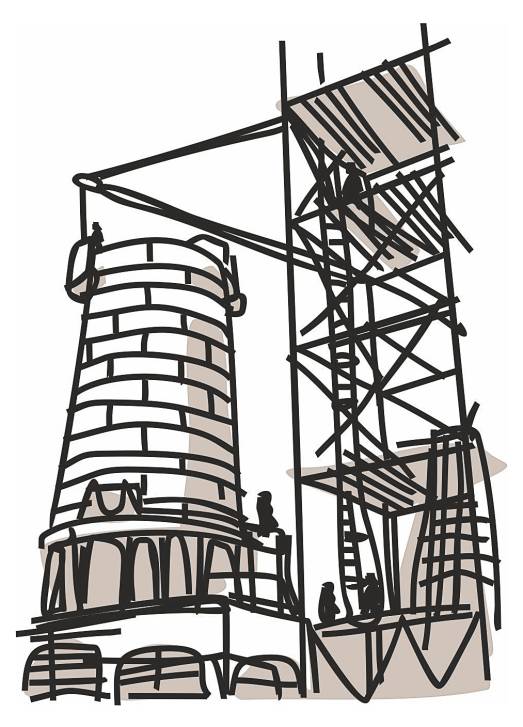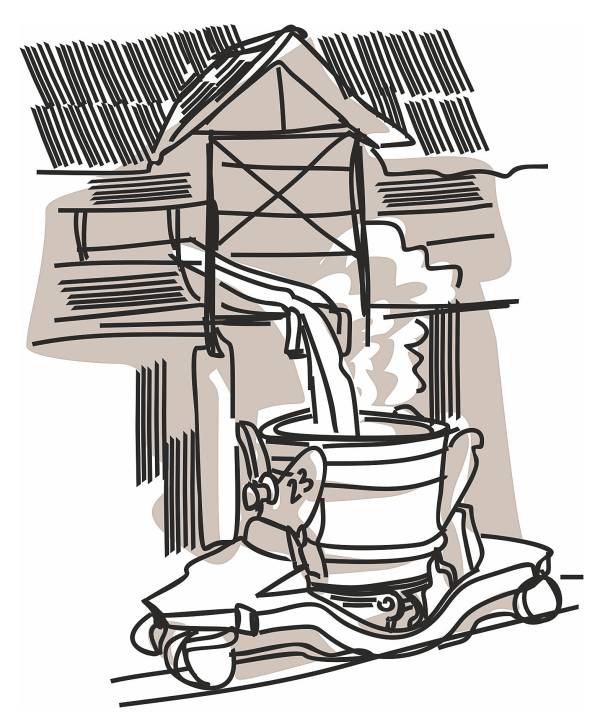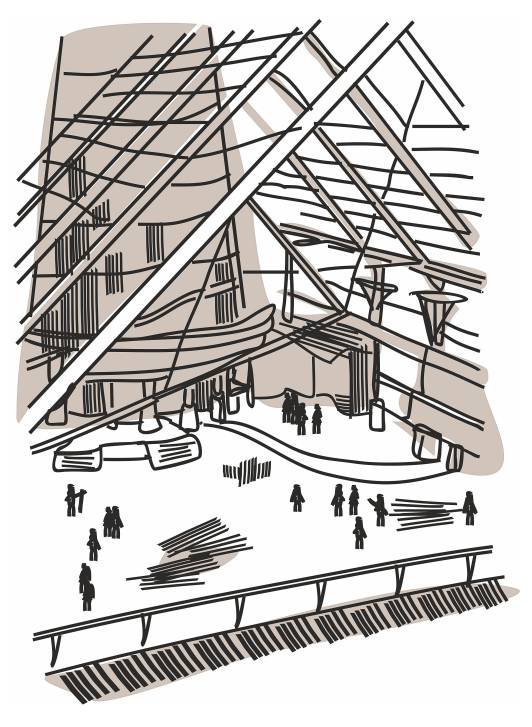И пусть чугуна по сегодняшним меркам было немного – не полноводная река, а всего лишь тоненький ручеёк, люди черпали в нём большую силу и чувствовали себя в ответе за каждую тонну.
Уже не осталось участников и свидетелей того исторического события: строителей домны, горновых, газовщиков, сменных инженеров, которым выпала высокая честь задуть её и получить первый чугун, но их воспоминания возвращают нас в тридцатые годы прошлого века, когда под звоном лопат оживала голая степь, вбивались первые колышки на месте будущих цехов. Преодолевая трудности суровой уральской зимы, работали землекопы и бетонщики, каменщики и монтажники. Сегодня кажется невероятным, что мощные громады современных цехов ММК, оснащённых сложнейшей техникой, берут начало от обыкновенной кирки и лопаты. Но в истории комбината немало подобных примеров. И рождение первой домны – один из них.
Горячее дыхание первой домны
Георгий Герасимов,
начальник разливочных машин доменного цеха
«Ещё до Магнитки я был знаком с доменным производством. Сын тульского доменщика, я шесть лет работал у домны Макеевского завода. В мае 1931 года весёлой гурьбой прибыли мы – молодые рабочие – в Магнитогорск с путёвками комсомола. Осмотрели корпус домны, пересчитали фурмы – шестнадцать оказалось. На четыре больше, чем в Макеевке. Взобрались на леса, заглянули в домну, где ещё и огнеупорной кладки не начинали, и решили город осмотреть. Легко сказать, решили. А города-то и не нашли. Всюду степь, лишь кое-где бараки да палатки. Так мы зашли в гущу палаток на то место, где теперь цирк, потом в барак на пятый участок, к месту своего жительства. Сюда приехал начальник цеха С. Н. Соболев. «Не робейте, ребята, – сказал он, – ждать недолго придётся. Видели, как жмут на стройке! А то, может, сами поможете?» Мы уже истосковались по работе и сразу согласились. Я по слесарному делу пошёл, другие – к монтажникам. ...Наступил январь 1932 года. Домна готова. Но нас пугают маловеры, что нельзя пускать – вода в трубах замёрзнет, ну да мало ли что говорили. Однако из столицы пришло распоряжение – пускать. 31 января вечером домна выдала первый чугун. Это было большим праздником. Многолюдный митинг состоялся у домны, строители брали на память кусочки чугуна и шлака. Из первого же чугуна мы отлили пластинку с датой выпуска и послали её на XVII партийную конференцию. Много трудностей было в период освоения домны. Всюду преобладал ручной труд. Фурмы, арматуру, глину – всё носили на плечах, лётку били ломами и бурили её шестеро горновых. А пушка Брозиуса! На всю стройку было слышно, как шумел пар, вырываясь из неё и заволакивая литейный двор. На работу ходили пешком. А в бараке холод – вода к утру замерзала. Не все выдержали испытание. Как пустая порода уплывает со шлаком, так «уплыли» любители лёгкой работы да «длинного рубля». А те, кто остался, навсегда сроднились с комбинатом. Это Николай Савичев, выросший от подручного газовщика до старшего мастера, Иван Лычак – старший мастер газового хозяйства и многие другие. Они несут вахты с первых дней пуска доменного цеха».
Жили одной мечтой
Иван Лычак,
старший газовый мастер доменного цеха
«Бетонный фундамент первой домны. Котлован под домну № 2. Вокруг конструкции, краны, шум и движение. Такую картину увидал я, прибыв на Магнитострой из Днепропетровска по призыву партии большевиков. Кого только ни встретил я здесь. Люди разных национальностей из самых отдалённых уголков Советской страны собрались на рабочую площадку. Непонятный говор, невиданные ранее одежды – всё было ново. Многие из прибывших сюда впервые видели машину. Для всех находилась работа. Такелажники котельно-ремонтного цеха проявляли исключительную сноровку. На 45-градусном морозе, особенно чувствительном для нас, южан, возводили мы корпуса домны и кауперов, поражая и удивляя своим энтузиазмом американских специалистов. Представители американской фирмы предлагали собирать наклонный мост по частям. Это не увязывалось с ударными темпами стройки. Мастер такелажников товарищ Коржаков удивил «мистеров» смелым замыслом, предложив поднять мост в два приёма. И поднял. Пожимали плечами «мистеры», удивляясь и сметливости русского мастера, и его бескорыстности – проделал такую сложную работу и хотя бы какую плату за это потребовал. Вот такой был мастер Кержаков. Жаль, погиб он на фронте Отечественной войны. Успехи такелажников всё же не переубедили представителей американской фирмы. Они и слушать не хотели, что доменную печь можно выстроить и задуть в такую суровую зиму. Так и уехали разочарованные, несогласные с нами. А мы своё дело выполняли. Обер-мастер огнеупорщиков товарищ Распопов успешно осваивал сложные методы строительства самой огромной в то время домны. Чернорабочие приобретали навык, квалификацию и становились активными участниками стройки. Люди мужали в труде. Строители домны жили одной мечтой – скорее увидеть результаты своего труда. Весь Магнитогорск присутствовал на торжественном митинге в день выпуска первого чугуна. Каждый брал на память ещё горячие чугунные плитки. Поздравляли друг друга инженеры, мастера, рабочие. О своей трудовой победе рапортовали магнитогорцы в Москву, и к нам отовсюду шли поздравительные телеграммы».
Жар молодых сердец
Григорий Сазоненко,
тридцать восемь лет проработал газовщиком в доменном цехе
«Жил я в Акмолинской области. Пятнадцатилетним парнишкой прослышал о строительстве комбината. Загорелся желанием увидеть свет. Удерживать меня было бесполезно – собрал я кое-какие пожитки и двинулся в путь. Вначале до железной дороги – на лошади, затем шёл пешком, неделю сидел на вокзале – уехать в то время было трудно. Целый месяц добирался. Когда стал устраиваться на работу – не берут: несовершеннолетний. Тогда я настрочил письмо в сельсовет, и в скором времени мне прислали «липовую бумажку», которая подтверждала, что мне не пятнадцать, а девятнадцать лет. Ради того, чтобы остаться здесь, на стройке, пришлось пойти на обман. Первое время работал в погрузбюро. Жил вместе с десятью рабочими в палатке. Бывшее её месторасположение там, где сейчас депо ЖДТ. Грузил кирпич для строящейся коксовой батареи, настилал полы в заводоуправлении, а на субботниках выходили все вместе рыть котлованы для жилых домов, сажать деревья. Выпало так: идёшь на работу – вбивают брёвна, возвращаешься с работы – уже стоит барак. Сейчас не узнать тех мест: огромные дома сменили неуютные бараки, деревья разрослись. Порой проезжаешь мимо тринадцатого участка и думаешь: «Когда-то эти деревья были всего-навсего саженцами. Вот так и наш комбинат...» В тридцать втором году, окончив ФЗУ, стал работать газовщиком доменного цеха. Тяжело приходилось в те годы – механизации почти никакой. Но, тем не менее, люди работали так, что все нормы и планы «трещали по швам». Жаром первых плавок горели сердца молодых. Помню, как мы в тридцать третьем году боролись за выплавку тысячи тонн чугуна в сутки. Этим событием в то время жил каждый. И когда первая домна выдала тысячу тонн чугуна, это была настоящая большая победа. Кажется, не было в городе человека, который бы не пришёл на митинг по этому случаю. Радовались все – от мала до велика, радовалась страна. Тогда для нас казалось, что тысяча тонн в сутки – потолок, а теперь мы выдаём две с лишним тысячи тонн чугуна на этой печи. Да, здесь, на уральской земле, прошла моя юность. Здесь я получил рабочую закалку. Я видел, как строился город и наш комбинат. Теперь, сравнивая прошлое с настоящим, думаешь: до чего же неузнаваемо всё меняется. Была степь, а теперь какой гигант построили на пустыре люди!»
Мой вечный долг
Алексей Шатилин,
доменщик, герой Социалистического Труда
«1921 год. Умер отец. Нас, ребятишек, осталось четверо. Я – старший, только что окончивший семилетку. Обучение тогда было платным, денег у нас не было. И пошёл я в батраки к кустарю-сапожнику. Обрабатывал его землю, делал всё, что заставит. Оплаты – никакой. Надоело на чужого гнуть спину. И вот по совету дяди приехал я на Донбасс, на биржу труда. Повезло: направили меня в доменный цех. Так я стал формовщиком. Парень я был здоровый. Работал как вол. Перевели в чугунщики. Потом в горновые – к Дужкину Григорию Ивановичу, с которым позже махнули в Магнитку. Что мы знали тогда о ней? Да лишь одно: что в глухой степи будет возводиться завод-гигант, что жить сперва придётся в палатках. Шестнадцать суток добирались до места в теплушках. Пять суток торчали в Карталах. Наконец прибыли. Отдел кадров размещался в дощатом вагончике. Отдали документы и пошли в доменный цех докладывать начальству о прибытии. На нас пальтишки демисезонные, кепчонки. На улице – февральская непогодь, впрочем, никаких улиц тогда ещё не было. Хорошо помню: только-только пустили «коптить» домну. Выдали нам шубы, шапки, валенки, даже пару белья получили. В бараке я жил всего два дня. Моим землякам предоставили комнатушку в 27-м корпусе по будущей улице Маяковского. В прихожей жил семейный машинист из Липецка с женой и четырьмя ребятишками, а в комнатке площадью четырнадцать квадратных метров – нас несколько человек. Буржуйка топилась днём и ночью. На работу ходили через базар. Опоздать – боже упаси! На базаре магнитские казаки картошку продавали – пюре. Купишь его да кислого молока, поешь, запьёшь кипяточком – и бегом на работу. На дорогу уходил целый час. В цехе тем, кто работал хорошо, давали по талонам сахар, печенье, капусту мочёную. В общем, с кормёжкой было нормально. Ну а работалось радостно, звонко. То ли время такое было, то ли мы молодыми были. Но не скажу, что легко было. Напротив. Почти все операции выполнялись вручную. В те годы домны в стране были маленькими. Магнитогорские – самые крупные. Приходилось на ходу и самим учиться, и учить новичков. Это было какое-то восхождение к рекордам. Нет, мы не выжимали из печей всё, что можно, а стремились грамотно работать на новейшей технике. Магнитка гремела на весь мир. Мы очень гордились тем, что двигаем вперёд отечественную индустрию.
45 лет отработал я в доменном цехе. Из них сорок лет мастером и обер-мастером. Участвовал в пуске почти всех доменных печей. Знал всех горновых, всех рабочих и делал всё, чтобы они поняли и полюбили свою профессию и свой комбинат».
На языке стройки
Эрих Хонеккер,
Генеральный секретарь Центрального Комитета Социалистической
единой партии Германии, Председатель Государственного совета ГДР
«Лето 1931 года, когда мне выпала честь вместе с другими молодыми коммунистами из разных стран принять участие в строительстве легендарной Магнитки, было временем захватывающих впечатлений. Первое из них после нашего прибытия на Магнитострой превзошло все ожидания. Нашему взору открылась широкая долина, утопавшая в предгорье, по ней извивалось зеркало реки, упиравшееся в тело плотины. Сегодня, как известно, эта плотина, сооружённая при неимоверных морозах, ниже уровня воды реки Урал. Тогда бросалась в глаза огромная строительная площадка, большое количество палаток и бараков и одно кирпичное здание, в котором размещалась дирекция. В некотором отдалении был виден берёзовый лесок, где жили иностранные специалисты. Со всего Советского Союза прибыли комсомольцы на строительство завода и города. На площадке не прекращался стук молотков: работа шла день и ночь. Мы подхватили этот ритм и, берясь за работу, часто думали о том, как всё это будет выглядеть в готовом виде. Земляные работы проводились тогда не экскаваторами, а лопатами и тачками, при палящем солнце и температуре в большинстве случаев за тридцать градусов. Было нелегко. Но фундаменты цехов, в которых будет вариться и перерабатываться сталь для народного хозяйства Советского Союза, росли, и мы были горды тем, что в этих фундаментах была и доля нашего труда. Я вспоминаю о проводившихся тогда субботниках. С музыкой мы приступали к работе, а когда дело было закончено, начинались танцы в кругу наших советских товарищей и друзей. Вместе мы переживали незабываемые часы».
От первого ковша
Трифон Сурнин,
ветеран Магнитки
«В 1929 году студентом четвёртого курса Уральского политехнического института я был, как тогда говорили, законтрактован Магнитостроем. Ехал после окончания института в Магнитогорск и думал: буду выплавлять чугун. Ехал мечте навстречу. Правда, одолевало беспокойство: как справлюсь, как проявлю себя в деле? Но не пришлось сразу выплавлять чугун, первая доменная печь только ещё строилась. С группой металлургов меня послали на Макеевский завод проходить стажировку. Вызвали оттуда, когда на домне велась огнеупорная кладка. Нам, инженерам, вместе с американскими специалистами надлежало вести за ней контроль. Но могли ли я и мои коллеги Тюлин, Брауде и другие довольствоваться только контролем, когда видели, с каким воодушевлением, напористостью работали впоследствии первые горновые Герасимов, Переверзев, Королёв, Душкин! Конечно же, вместе с ними включились в работу. Все стремились быстрее подготовить домну к пуску. Предстояла XVII конференция ВКП(б), и дать первый чугун в день её открытия было не только делом чести нас, доменщиков, но и делом трудовой чести всех магнитогорцев, величайшим событием на пути индустриализации страны. Для нас имела немаловажное значение и другая сторона: кадры металлургов привлекались с различных старых заводов, из институтов. Надо было побыстрее притереться. Началом этому и стала совместная горячая работа на подготовке к пуску первой домны. О задувке домны, выпуске первого чугуна, напряжённом ожидании этого момента и его радостной встрече много написано и рассказано. Мне запал в память такой момент: когда дали воздух через каупера, все мы кинулись посмотреть через фурмы: загорятся ли дрова? А увидев разрастающееся пламя, радостно говорили друг другу: «Пойдёт дело!» От задувки домны до выпуска первого чугуна каждый инженер отвечал за порученный участок и обязан был обеспечить на нём порядок. Ведь в это время на литейной площадке и горячих путях собрались тысячи людей. Когда в ковш налили около шестидесяти тонн чугуна, мне начальник цеха Николай Сергеевич Соболев поручил сопровождать его до разливочной машины и организовать разливку. Тогда железнодорожные пути были ещё не обкатаны, чугуновозный ковш проходил по ним первый раз. Я впереди него шёл и сбоку, смотрел, чтобы всё было ладно. А самого чувство радости переполняло через край. Вот так и взяла свои истоки река магнитогорского чугуна. Всего 360 тысяч тонн мы выплавили его в 1932 году».
Когда ходили «кукушки»
Николай Зиновьев,
сменный диспетчер ЖДТ комбината
Год 1931-й. Как и тысячи других комсомольцев, двадцати лет я приехал в Магнитогорск, оставив свой родной город Бугульму. Был декабрь, морозный и вьюжный. Суровая уральская природа как будто хотела испытать нас. Выйдя из холодного вагончика, я попытался глазами отыскать гигант-новостройку. Но его не было, кругом заснеженная степь, пурга да тысячи людей, которые и должны были его построить. И мы строили. Жили в холодных бараках по сто и больше человек – строили, с питанием было плохо – строили, ветер валил с ног, а мы всё равно строили. Знали, что металл очень нужен нашему молодому государству. Трудностей хватало – на всю стройку было около двух десятков маломощных паровозиков да один экскаватор, всё остальное заменяли наши руки. Да и мороз-злодей то и дело выводил из строя «кукушек». Помню, в ночь на 20 февраля замёрзли почти все водоколонки, и на следующий день большинство паровозов не могли выйти из депо. Работали на лошадях, возили землю на грабарках, на телегах. В то время землекоп и грабарь звучали так же, как сейчас доменщик и сталевар. Я же был костыльщиком, мы расширяли железнодорожные пути. Помню, как здорово было, когда пускали первую домну. Этого никогда не забудешь. Это была наша первая победа в борьбе за металл. Несмотря на сильный мороз, все строители пели, плясали, поздравляли друг друга... Что и говорить, каждый чувствовал себя первосоздателем мира, всем казалось, не будь этой домны – и жизнь прекратится. Крики «ура», вверх полетели шапки. Радостные, взволнованные люди бежали впереди и рядом с первым составом чугуна, который вели машинисты Дурманов и Болохов. Весь мир облетела весть о первом металле Магнитки. Строители получали поздравления со всех концов нашей необъятной Родины и от наших зарубежных друзей. Мы ликовали. После того торжественного дня я решил стать машинистом, пошёл учиться на курсы. Учились все, казалось, не было ни времени, ни сил, и всё же учились. Летом на улице, зимой в палатках, землянках. Через девять месяцев я стал машинистом паровоза – «кукушки» под номером 91. Наши паровозики уже не справлялись, комбинат рос как богатырь, приходилось по несколько суток не выходить из своих «кукушек». Машинистов не хватало. На одном поезде было семь тормозильщиков, автоматических тормозов не было. Помню, подавал первый чугун на мартен и едва не перевернулся – ковш был слишком тяжёл для «кукушки». А мы их всё равно любили – эти трудолюбивые, как пчёлки, паровозики».
Росли вместе с заводом
Спиридон Ненно,
мастер котельно-ремонтного цеха
«Весть о большой стройке на Урале долетела до нас на Керченском металлургическом заводе не только через страницы газет, но и в многочисленных заказах на металлические конструкции для доменной печи Магнитки. Выполняли эти заказы мы с большим энтузиазмом, каждое дело горело в руках. Хотелось как можно быстрее отправить их на Урал. В мае 1931 года все конструкции были отгружены, а с ними поехала и бригада монтажников, в составе которой был и я. Мы уже имели опыт монтажа доменной печи, правда, меньшего размера, у себя на заводе и ехали с охотой поработать на Урале. Дорогой то и дело обгоняли нас поезда, идущие по тому же маршруту, что и мы, – вся страна участвовала в великой стройке. Хорошо потрудилась бригада, работали мы сами и многих строителей обучали монтажному делу! Где и уменье бралось. Крылатое слово «ударник» появилось в речах строителей. Тогда мне выдали первую на заводе книжку ударника первой пятилетки на вечере строителей в бараке, переоборудованном под клуб. А там и пошло. Осваивали, росли. Приезжали к нам руководители партии и правительства товарищи Ворошилов, Молотов, Орджоникидзе. Они беседовали с нами. И в решении сложных заданий, которые намечала партия, мы принимали горячее участие. Кузнецы-гибщики котельно-ремонтного цеха товарищи Руденко и Красно с того времени работают в цехе, как и я. Ушли на пенсию старшие наши товарищи Корниенко и Попов. Выросли новые умельцы. Фёдор Удалых от рядового клепальщика вырос до начальника участка, Семён Друзенко – от молотобойца до старшего мастера. От клепальщика до мастера вырос Григорий Полтавский. Прессовщик Охременко стал старшим мастером. Неизменно возрастали мастерство и техника. Наш котельно-ремонтный цех оснащён передовыми станками и механизмами, способен выполнять самые сложные заказы. Новое пополнение, приходящее в цех из ремесленных училищ, сразу приобретает опыт, смело идёт вперёд по пути прогресса, обгоняя нормы. С гордостью следим мы, первые строители Магнитки, за ростом завода, его людей, вместе с ними вкладывая и свой труд в общее дело».
Оглядываясь назад
Иван Ряскин,
газовщик коксового производства
«В начале 1931 года, когда я приехал с Украины на строительство Магнитки, на месте теперешнего завода лежала бескрайняя степь. И только ночью вспыхивали огни да можно было услышать звон молотков клепальщиков. Это строили первую домну и коксовую батарею. Шёл мне 22-й год. Я уже имел специальность газовщика коксового производства. Вручили мне путёвку ЦК комсомола и сказали: «Поезжай на Магнитострой, будешь работать на новой коксовой батарее». Но когда я с товарищами прибыл на место, даже никаких признаков не было этой батареи. Требовалось сначала её выстроить. И вот газовщики, машинисты, горновые, слесари засучили рукава и превратились в строителей-монтажников. Работа кипела! Трудно описать энтузиазм, каким была охвачена новостройка. Люди не покидали рабочих мест по двое суток. Часы небольших передышек коротали в брезентовых палатках. В то время полотняные лагери были раскинуты на пятом, одиннадцатом и шестом участках. Огонь соревнования охватил всех строителей. Заря каждого нового дня рождала всё новые и новые успехи на стройке. В качестве технического консультанта на строительство коксовых батарей был приглашён американский специалист мистер Доллар. Он себя воображал волшебником техники и весьма пренебрежительно относился к русским строителям. Но вот наши монтажники ставят один за другим рекорды и приводят в удивление иностранцев. Помню, однажды, наша бригада, соревнуясь с бригадой Ферапонта Шибаева, выдвинула обязательство установить барельет на коксовой батарее за сутки, то есть втрое сократить установленный срок. Когда об этом сообщили мистеру Доллару, он на ломаном русском языке заявил: «С ума сошли... Мы будем смеяться, когда у русских будет большой скандал. Нужно пять дней...» Можно представить изумление американцев, когда наша бригада сдержала своё слово! Барельет был установлен в течение суток. Так социалистический труд побеждал всюду, на всех участках стройки!»