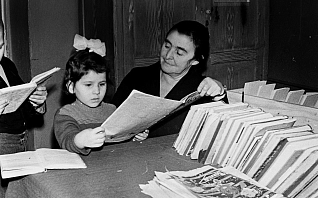В ноябре 1990 года первую конвертерную сталь выдал ККЦ, который кардинально изменил сталеплавильный передел комбината и положительно повлиял на экологию Магнитки, ведь с его пуском были выведены из работы некоторые мартеновские печи. Однако история, связанная с проектированием и строительством цеха, не была простой…
В 60-х годах прошлого века «золотая эра» мартеновского производства подошла к концу. США, Япония и Германия стремительно обновляли свои заводы, переходя на более современные конвертеры и электропечи. В СССР первый кислородно-конвертерный цех был введён в эксплуатацию в Нижнем Тагиле 1 октября 1963 года. Он был построен на базе Качканарского ГОКа и стал крупнейшей Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Запущены конвертеры в Кривом Роге, Липецке. Кстати, на Липецком меткомбинате вообще совершили революцию, впервые в мире соединив кислородный конвертер с непрерывной разливкой стали. При этом на легендарном Магнитогорском металлургическом комбинате мартеновские печи продолжали работать ещё долгие годы. И работали так хорошо и продуктивно, что Министерство чёрной металлургии не считало нужным выделять средства на строительство нового современного цеха.
Первый проект кислородно-конвертерного цеха ММК увидел свет ещё в середине семидесятых. Предполагалось возвести комплекс первой очереди с двумя 350-тонными конвертерами, способными ежегодно выдавать пять миллионов тонн литой заготовки. Проект получил одобрение в 1976-м, но так и остался на бумаге. После долгих лет согласований, доработок и поисков идеальных решений была разработана новая рабочая схема. Она кардинально отличалась от первоначального технического проекта и давала возможность построить цех, используя новейшие, передовые технологии.
В марте 1985 года лёд тронулся! Вышло распоряжение Совета Министров по строительству комплекса цеха, и началось финансирование обновлённого проекта. По соседству, в Новокузнецке, должен был появиться точно такой же комплекс – разработкой занимался Сибгипромез. Однако на Запсибе этот грандиозный план в те годы так и не осуществили.
Особого внимания заслуживает история с выбором места под строительство. Изначально рассматривался вариант на территории старого аэродрома – там была чистая и ровная площадка, удобно строить. Однако привозить туда чугун и лом – проблематично. Поэтому остановились на, казалось бы, совершенно авантюрном варианте – в пойме реки Урал, на шлаковых отвалах, доходивших до 35 метров в высоту! Частично шлаки были вывезены, но значительная их часть стала тем самым основанием, на котором высится ныне ККЦ.
При закладке фундамента это принесло немало сложностей. Так, например, забивая сваи, рабочие зачастую упирались в «скордовину» – застывший слиток металла, оставшийся в результате производства чугуна. В таких сложных условиях пришлось корректировать проект и переходить на бурозабивные сваи. Для их сооружения требовалось закупить оборудование в Японии. В смете такие расходы предусмотрены не были, а речь шла о десятках миллионов долларов.
Из воспоминаний директора Магнитогорского Гипромеза (1976–1993 гг.) Александра Михайловича Литвака:
«Вызывают меня в Москву на совещание к министру с материалами по свайному основанию. Я уже тогда знал, что руководители столичных министерств категорически не согласны с решением по применению буронабивных свай. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. На заводе «Атоммаш» в цехе, построенном в пойме Волги, создалась аварийная ситуация. Цех был построен на забивных сваях, которые не обеспечивали устойчивость колонн. Произошла значительная просадка конструкции здания, пришлось затратить много сил и средств на исправление положения. У нас была схожая ситуация. И я в своём выступлении сослался на опыт «Атоммаша». После длительных споров была принята наша точка зрения, и нужные средства были выделены...»
Комплексное проектирование цеха шло под непосредственным руководством директора Магнитогорского Гипромеза Александра Литвака, которому неоднократно приходилось защищать право института разрабатывать проект комплекса, имеющего колоссальное значение для всей страны. Изначально планировалось, что эти работы будет вести главный институт отрасли – Московский Гипромез. Не желая никому отдавать эту работу, но при этом испытывая серьёзную загрузку, москвичи тянули со сроками. Руководство ММК в лице Ивана Харитоновича Ромазана приняло решение обходиться силами местных проектировщиков.
О периоде проектирования и строительства ККЦ вспоминает ветеран Гипромеза Александр Александрович Овчинников. На тот момент он возглавлял сталеплавильный отдел, а позднее вплотную занимался ККЦ уже в качестве главного инженера проекта. В дальнейшем Александр Александрович стал первым заместителем генерального директора института. Он рассказывает, что именно на ККЦ Магнитогорским Гипромезом впервые была опробована и обкатана новая технология «параллельного проектирования». Строительство велось, что называется, «с колёс»: утром инженеры получали новое задание, а вечером уже выдавали готовое решение.
После выхода очередного постановления ЦК КПСС и Совмина СССР об экономии чугуна при производстве стали требовалось увеличить долю перерабатываемого в конвертерах металлолома с привычных 27 процентов до колоссальных 45! Что делать? Как обеспечить конвертеры таким количеством лома? Строить огромный шихтовый двор? Инженеры нашли нестандартное решение. Вместо громоздкого стокубового совка они решили заваливать металлолом двумя порциями из 50-кубовых совков, используя для этого специальный портальный кран. Такой подход позволил развести заливку чугуна и подачу лома по разным уровням. А 50-кубовые совки, которые поставлялись из соседнего копрового цеха, избавили от необходимости строить гигантский шихтовый пролёт в самом конвертерном цехе.
Также Александр Александрович вспоминает интересный момент: когда до пуска цеха в работу оставалось около года, Иван Харитонович Ромазан засомневался – действительно ли на Магнитке при проектировании задействованы самые передовые и лучшие решения? Чтобы убедиться в этом, в Германию отправили рабочую группу.
Из воспоминаний первого заместителя генерального директора АО «Магнитогорский Гипромез» Александра Александровича Овчинникова:
«В ноябре Ромазан, Слонин, начальник центральной заводской лаборатории Бахчеев, руководитель НТЦ Сарычев и я поехали в Германию смотреть конвертерный цех, который производил около пяти миллионов тонн стали. Посмотрели всё и обнаружили, что их технические решения местами даже хуже! Благодаря этой поездке Иван Харитонович смог убедиться, что проект ККЦ на текущий момент – действительно передовой, более того – лучший в мире!»
Рассказывает Александр Александрович и о непростой борьбе, которую ММК и Магнитогорский Гипромез вели с Ленинградским Гипромезом. Тот предлагал линейную схему разливки стали, а магнитогорцы грудью стояли за блочный вариант.
Из воспоминаний первого заместителя генерального директора АО «Магнитогорский Гипромез» Александра Александровича Овчинникова:
«При блочной схеме мы могли подать ковш со сталью к любой машине, независимо от того, работает ли другая машина рядом, или сколько их вообще. Это давало нам гибкость, бесперебойность. Но строительство такого отделения требовало больших вложений. В министерстве на это смотрели косо – для них это были лишние капитальные затраты. А вот линейная схема, которую предлагали ленинградцы, была более экономичной, но у неё были свои проблемы. Представьте, что сталевозные пути расположены в ряд, а машины – по сторонам. Если машин много и они дальше от путей, то ковш со сталью может просто не дойти – ему может помешать кран, который обслуживает машины, расположенные ближе к путям. Организация работ в таком случае будет сложнее. В итоге мы смогли отстоять блочную планировку. Уверен, в итоге это решение оказалось правильным для нашего производства».
Галина Смирнова,
специалист по связям с общественностью АО «Магнитогорский Гипромез»
Продолжение следует.