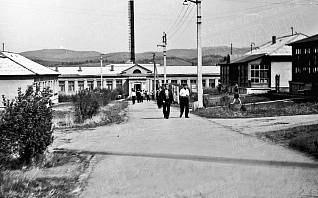74-ЛЕТНИЙ кинорежиссер уже и сам не знает, какой стране и какому времени он принадлежит: Советскому Союзу, Грузии или Франции, в которой живет уже не один десяток лет.
Когда-то, когда перемены в пространстве СССР только начали проявляться, он предпочел спокойную жизнь во Франции. Спокойной она оказалась по нескольким причинам: во-первых, это буржуазная страна, далекая от реформ, тем более экономических. А во-вторых, Франция как-то сразу приняла Отара Давидовича – в отличие от многих деятелей культуры, отдавших предпочтение Западу: то ли его хороший французский сказался, то ли настоящее искусство уроженца СССР этой стране пришлось по душе. Впрочем, Отар Иоселиани не превозносит Францию – на вопрос моего коллеги о том, как живется, а главное, творится в этой стране, ответил:
– Мои коллеги из бывшего СССР говорят, что им тут плохо работать. Во Франции тоже нелегко: раньше в СССР была идеологическая цензура, а на Западе есть цензура финансовая – она и в России сейчас установила свою власть. Продюсеры хотят, чтобы на их фильмы шли люди. Название придумали – «авторское кино», полупрезрительное по отношению к тем, кто им занимается. Я считаю, что бывает или кино, или халтура. Кинопродукция по схемам Голливуда, на прокат и на публику, – наверное, все-таки это не кино, а такие… поделки. Кино может быть только авторским и никаким другим. В Голливуде тоже сначала снимали приличные картины – те же «Унесенные ветром». А потом выяснилось, что в кинотеатры ходят мещане или совсем молодые люди, которым подавай мифы и романтику. Вот их и обслуживают. А тем, кто не ходит в кино, подсунули телевидение, чтобы мы, уставшие с работы, плюхались в кресло и засыпали под всякую дребедень.
И проблемы, считает художник, во всех странах одинаковы:
– Вы сами не видите, что происходит? Люди везде совершают плохие поступки. Иногда их мучает совесть, иногда нет, но они продолжают хапать, воровать, накапливать. И не думают о том, что все прекратится в один день. В России это чувствуется особенно остро, потому что она вступила в стадию, как говорится, дикого капитализма. Но снимаю я во всех странах – и во Франции тоже, чтобы показать, что везде одно и то же. Чтобы не было ощущения, будто только в России беда.
После общения с прессой открылась и сама выставка. В небольшом зале – бывшем жилом помещении из нескольких смежных комнат – на стенах висели его фотографии, сделанные на съемках, зарисовки, наблюдения... Но главное – раскадровки, то есть схематичное изображение каждого кадра: грубо говоря, та же пленка, только сделанная от руки. Сегодня никто уже и не знает, что это такое – только старые мастера работают по раскадровкам – молодое поколение, если и рисует, то очень примитивно: один кружок в углу – один герой, другой – героиня, квадрат между ними – стол… Раскадровки же Иоселиани выполнены с практически художественной точностью. Более того, все они дополнены подробнейшим словарным описанием того, кто и что делает: если фильм снят в России – на русском языке, если во Франции – на французском.
Конечно, пресса тут же накинулась на режиссера, пытаясь выпытать, какой философский подтекст вкладывал художник в свои раскадровки: слишком уж много смысла вкладывает Отар Давидович в свои фильмы, иногда не сразу понятные для обывателя, – так что даже в эти рисунки хочется вложить нечто большее, чем просто схему: «В раскадровках вам важна композиция или настроение? Что вы хотели сказать своими раскадровками?» И режиссер отвечал сначала просто, потом чуть устало, а затем уже чуть раздраженно: медленно, тщательно артикулируя – как для глухонемых:
– Да ничего я не хочу ими сказать – это не отдельное искусство, это основа для фильма. Рисунки забавны, и это может быть вам интересно – вот и все. И настроения никакого в раскадровке нет и быть не может, потому что оно создается на съемочной площадке и нигде более. В профессиональном отношении раскадровка – это всего лишь схема перемещения и аппарата, то есть камеры, и тех людей, которых я снимаю. И больше ничего.
И наконец – на вопрос: «Не приходило ли вам в голову делать раскадровки уже после фильма?» – он от души рассмеялся:
– Ну что вы, разве я похож на сумасшедшего? Я работу люблю – но только ради результата, а не саму по себе. Так что я все делаю в свое время.
В это время комната постепенно наполнялась посетителями. Одним из первых пришел телеведущий Юрий Николаев – сам бывший артист, он с большим удовольствием и вниманием рассматривал все – даже на прессу не отвлекался. Евгений Примаков прошел в окружении свиты, которая в буквальном смысле распихнула проход для своего шефа, так много здесь собралось народу. Евгений Максимович подошел к юбиляру, крепко обнял его, расцеловал… Затем они уединились в комнате и беседовали несколько минут при закрытых дверях. А потом Примаков покинул выставку – так же быстро, как приехал на нее.
Ирина Хакамада также была окружена вниманием прессы – она пришла на выставку с мужем. Нам удалось отвлечь ее на пару слов:
– Что привело сюда политика? Я знаю, что большую политику вы покинули, но такие люди, как вы, думаю, навсегда вынуждены носить это гордое звание.
– ( Смеется ). Спасибо за комплимент, но я здесь как человек, как почитатель: обожаю Отара Давидовича и как большого художника, и как потрясающего человека – я горжусь близким знакомством с ним. Он читал мою книгу «Секс в большой политике» и хохотал страшно – говорил: «Ира, это гениально, как ты над всеми ними издеваешься!» Он гений – говорю это абсолютно откровенно. Я смотрела его последний фильм, снятый в Париже, – он даже начинается гениально: старики выбирают себе гроб и начинают ссориться друг с другом, потому что нескольким понравился один и тот же.
– Какой ужас!
– Да почему же ужас – это грузинский юмор, в передаче которого Отар Давидович является истинным мастером. Он очень ироничен и очень тонок – как и хороший грузинский юмор.
После мы подошли к Нани Брегвадзе – уж очень интересно было получить у грузинской певицы оценку грузинской иронии в исполнении Отара Иоселиани. Но получили неожиданный ответ:
– Честно говоря, я не ироничный человек и поэтому не люблю ироничных людей. В Отаре я никогда не замечала этой черты характера. Но, если о нем так говорят, значит, он еще лучше, чем я о нем думала, – а мы дружим с Отаром много лет, и я преклоняюсь перед ним и как перед творцом, и как перед другом. И если он ни разу не применил по отношению ко мне своей иронии, значит, я тоже для него что-то значу.
Отар Иоселиани обожает свою работу; он не просто снимает кино – на съемочной площадке он пытается отразить все, что ему показалось интересным: быт африканских поселений, еще не тронутых современной цивилизацией, взгляд или оборот головы его актеров – все моментально отражает его фотокамера, которая всегда при нем. А еще он очень любит экспериментировать: то по-новому заставит играть освещение, то камеру повернет не так, как обычно, то пригласит в свой фильм непрофессиональных актеров. Потом это станет его излюбленным приемом. Об этом спросили одного из посетителей выставки – известного кинорежиссера Вадима Абдрашитова: мол, многие киношники спорят, можно ли снимать непрофессионалов?
– А зачем об этом спорить, – усмехается Вадим Юсупович. – Если получилось хорошо, если непрофессионализм актеров не только незаметен, но и дал игру новых красок фильму, то споры отпадают сами собой. Я лично считаю Иоселиани огромным мастером художественности и в то же время точности отображаемого. И я даже не могу сказать о нем, что он, к примеру, классик грузинского кино: он был классиком грузинского кино, потом – советского, далее – антисоветского, а теперь и мирового, потому что его имя признано во всем мире. И то, что через эту выставку необходимо в обязательном порядке «прогнать» всех студентов-кинематографистов, – это точно.
Может, потому и фильмы Иоселиани получались такими разными: самые первые – обласканные властью и получившие самый широкий прокат – и в кинотеатрах, и на телевидении, только зарождавшемся в то время. Затем – фильмы, которые западная критика назвала «истинным искусством», бросив к ногам режиссера все мыслимые и немыслимые (для советского-то человека!) награды Каннского, Берлинского и других кинофестивалей. Но советская – идеологическая – критика уже не так восхищалась тем Иоселиани – наверное, поэтому шестидесятники восприняли тогдашние его творения практически гимном диссидентству. А потом он уехал – сейчас живет во Франции и пытается примирить кино авторское и коммерческое. Пытается сделать это консервативно: изучает, пробует… Только в одном не уступает: ни шага прочь от качества. Когда-то любил снимать стариков:
– Я считаю, что старость – это лучшее время жизни человека, потому что ты имеешь прекрасную возможность остановиться – просто подышать, полюбоваться жизнью… Есть опыт, чтобы правильно расставлять приоритеты, есть возможность просто пожить, посмотреть назад – на то, что ты сделал… Конечно, если ты плохо жил, то это будет тяжело. Но если не натворил грехов, то, знаете, в дыхании появляется такая легкость.
– Поэтому все ваши старики такие благородные? (Я пользуюсь минутой для интервью с Отаром Давидовичем, пока его оставили остальные – покурить).
– Да, я стараюсь показать старость такой, какой она должна быть – солидной и спокойной, умиротворенной.
– Вы простите, но я снова возвращусь к вашим раскадровкам – уж если им посвящена ваша выставка.
– Самое интересное, что эту выставку нельзя назвать моей в полном смысле этого слова – не я был ее инициатором. Я храню свои рукописи – по-стариковски, для памяти. Мне предложили их показать – я и показал.
– Раскадровки – это, как я поняла, классический метод работы, можно даже сказать – консервативный, судя по тому, что сейчас никто так не работает…
– А я и есть умеренный консерватор. Насколько я знаю, к ним больше действительно нет такого благоговейного отношения.
– В таком случае, зачем это нужно вам? Уж вы-то, мастер, можете себе позволить опустить такую мелочь…
– В свое время мне это подсказал Гриша Чухрай, с тех пор я так работаю. Я, как режиссер, отвечаю на площадке за все – от начала до конца. И раскадровки являются доказательством того, что я все выполняю согласно расписанию: возьмите любой мой фильм, сравните их с раскадровками – и вы сами убедитесь, что результат соответствует первоначальной идее. Это математическое изображение творчества.
– Сочетание несочетаемого?
– ( Смеется ). Человеку, занимающемуся гуманитарной профессией – абсолютно любой, по моему убеждению, в первую очередь нужно учиться музыке и математике, все остальное придет само собой, на практике. Потому что надо понять алгоритм, надо научиться думать, а не просто сочинять «Свинарку и пастуха» – от Музы. Я вообще сторонник материального искусства – возьмите пьесы Пушкина, того же «Моцарта и Сальери», и вы поймете, что разговор в них все время идет о вещественных понятиях, а не об абстрактных сферах. Душа – это тоже материальное понятие. Без материализации нет ничего, и кино, нарисованное на бумаге, помогает не распасться тому кино, которое проистекает потом во времени.
– Разве импровизаций не бывает?
– В каждом фильме практически. Но раскадровки помогают импровизировать легче, быстрее – они просто облегчают мне работу.
– Я знаю, что вы любите черно-белое кино. Когда в ваши работы пришел цвет и почему?
– Он пришел тогда, когда вы, зрители, этого захотели. Я вынужден это делать: все вы смотрите телевидение, и никто – ни один продюсер – не даст теперь ни копейки на черно-белое кино. Все, что мне остается делать, – это чтобы цвет в моих работах был практически незаметен. ( Смеется ).
– То, что на ваши раскадровки нужно смотреть профессионалам от кино, – это понятно. А насколько это нужно выносить на суд общественности? Нужно ли нам, зрителям, понимать, из чего состоит ваше кино? Не лучше ли сохранить некое таинство?
– А знаете, любое произведение, которое есть результат труда, всегда приятно рассматривать в процессе, изнутри – возьмите те же партитуры. Сколько бы вы ни пялились в ноты, вы так и не раскроете таинства музыки, если вы не профессионал. Но одно созерцание нотной партии приводит в восхищение: это особенный язык, даже если вы не читаете его, он красив сам по себе.
– Я-то смотрю и ноты, и ваши раскадровки с большим удовольствием, да только вот творцы, насколько мне известно, не очень-то любят пускать к себе в мастерскую посторонних – а вы как раз нас запустили к себе в закулисье.
– Мне кажется, вы не правы – ведь те же партитуры продают в любом магазине… И даже если вы выучите их наизусть, вы не перестанете восхищаться тем, как их исполняют – каждый по-разному.
– Вы так просто говорите о своем искусстве… Будто не относитесь к нему с придыханием!
– Отношусь, почему же – только не к своему, а к искусству в целом. Хотя, кино – это не музыка. Вот на скрипке, саксофоне или фортепиано нужно учиться играть годами – и даже после этого может случиться так, что ты оказался неталантливым музыкантом. В кино все происходит быстрее: я могу за два месяца научить снимать кино – это не так сложно. И сразу увижу, талантлив студент или нет.
– Где-то я читала, что вы не любите снимать прошлое. А я почему-то считала, что вам оно должно быть интересно…
– Нет, мне интересна современность. Как я могу показывать время, которое не видел сам? Получится ложь, потому что мы не знаем, что происходило тогда, – мы можем только фантазировать на эту тему. И получится, что мы снимаем не исторического героя, а себя, свои мысли в нем.
– Ваша мудрость поистине бесценна – как опыт будущему. В Тбилиси вы не будете делать подобную выставку?
– ( Смеется ). У вас в Москве-то до сих пор нет кинематографа, а вы хотите, чтобы он в Тбилиси был! Мне, может быть, и хотелось, да, думаю, там пока это никому не нужно.