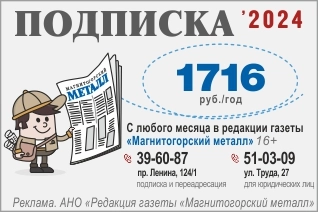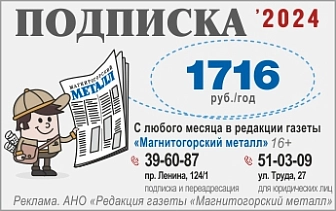Всё, что вышло из-под пера Нины Георгиевны, – понятно, человечно, проникнуто любовью к людям, миру, природе, родине. Будь то стихи для детей, легенды или философская лирика. Она, чья жизнь выпала на непростой и «разный» двадцатый век, повидала всякое. И говорила, что у неё три Родины в едином Отечестве. Речь о Полтавщине, городе Лубны, где прошло детство, Кургане, жизнь в котором Нина называла эпохой борьбы с всеобщей неграмотностью – в просветительстве была доля и её труда, молодой преподавательницы. И третья малая родина – Магнитогорск, куда приехала в 1934 году за высшим образованием и судьбой.
Последнее время всё больше думаю о земле, где она родилась, и где мне удалось несколько раз побывать. Лубны – это часть и моей жизни. Ездили туда с Ниной Георгиевной – для меня она ещё и просто бабушка. Помню, как она варила абрикосовое варенье, упаковывала в несколько целлофановых пакетов и отправляла почтой в Магнитку. Помню шелковицу, которая росла прямо на улицах маленького городка – сладкая, слегка терпкая ягода, оставлявшая приятное послевкусие и сине-фиолетовый язык. На улице Мира были частные дома, в одном из которых жил двоюродный брат Нины Георгиевны Игорь с тётей Ганной. В июле 1980 года по цветному телевизору (у большинства тогда были ещё чёрно-белые) смотрели олимпиаду, а ещё узнали о смерти Высоцкого. И это тоже события, которые ассоциируются у меня именно с Украиной.
Бабуля возила меня в Киев, жили у её подруги. Крещатик, Днепр – всё это, пусть немного стёртое годами, живёт во мне как часть детства. И забыть запахи свежевыпеченного хлеба в соседней пекарне, песка после дождя и мокрой травы тоже невозможно. После смерти бабы Нины я уже со своей семьёй ездила в Лубны. Дочке было три года, и она ничего не помнит. Но в ней наверняка энергетически осталась частичка этих волшебных мест, родины её предков.
Сегодня путь в город, где ещё сохранилось здание бывшей усадьбы Кондратковских, заказан и мне, и моим детям. Долгие годы с немногочисленными дальними родственниками на Украине мы поддерживали связь через социальные сети. Теперь вести доходят редко. И одна из последних очень огорчила. В борьбе со всеми проявлениями «русских, советских корней» в Лубнах стёрли с лица земли ту часть кладбища, где захоронены «коммунисты». Под раздачу попала и могила любимой бабули Нины – Анны Михайловны Поповой. Это была уникальная женщина дворянского происхождения, высокообразованная, владевшая двумя иностранными языками, писавшая стихи и прозу – архивы хранились в музее в Лубнах и академии наук Украины.
Она сопровождала дочь Оксану и внучку Ниночку в Кургане, но когда тяжело заболела, вернулась умирать домой. Теперь там нет её могилы. А на месте старого погоста новые бизнесмены построили детский развлекательный центр. Даже не хочу это комментировать. И, слава богу, бабуля не дожила до такого… Она со своей жизнеутверждающей позицией, верой в добро, честь, совесть, искренней любовью к стране даже и представить не могла, когда говорила о трёх родинах в единой Отчизне, что когда-то всё так перевернётся. И тем актуальней и нужнее сегодня для нас звучат её строки, наполненные теми качествами, что мы называем общечеловеческими ценностями. Ими и помянем её в этот день…
***
Не закрывайте память на засов,
Свою судьбу с эпохой соразмерьте.
Предав забвенью дедов и отцов,
Вы у себя отнимете бессмертье.
***
Уж давно меня, привечая,
Называют по имени-отчеству.
Уж давно и я получаю
Величайший дар одиночества.
Одиночества, не ценимого,
Проклинаемого когда-то,
Пропускавшего мимо, мимо
Всё, что истинно, всё, что свято.
А теперь оно есть – трамвайное,
Междудельное, междувстречное,
Полунощное и дневальное,
Неурочное, быстротечное.
Одиночество первопутника
С огоньками и перегонами,
С необъятным пространством Пушкина,
С непостижной бездной Бетховена,
Пролетающее сквозь веселье,
Пролетающее сквозь наивность,
Открывающее, сколь бесценна
Человеческая взаимность.
Не вопросы, а допросы…
Не вопросы, а допросы.
Кем мы были? Кто мы есть?
Сквозь ледовые торосы
Не пробиться, не пролезть.
Понадеяться на случай,
Как в игре «Что? Где? Когда?».
Просто стать добрей и лучше,
Чтоб ни пользы, ни вреда.
Верить сызнова пророкам,
Так под их словесный чад
Прорицанья вышли боком –
По сей день в боку торчат.
Разум надвое расколот.
Кто ответчик? Кто судья?
И бросает в жар и холод
Непутёвость бытия.
Думы голову арканят.
Тише, сердце, не кричи.
За двенадцатью замками
Есть ответ. Да где ключи?
***
На части разорваться? Для чего?
Мне совесть века не поднять на плечи.
Смешить людей и зря себя калечить –
Не в этом суть страданья моего.
Не в этом смысл коротенькой судьбы –
Одной песчинки в жизненной пустыне…
Представишь те барханы – кожа стынет,
Душа от потрясенья – на дыбы.
Песчинку выдувают ураганы,
Возносят в небо чёрные смерчи,
Утюжит солнце, топчут караваны,
И люди обжигают в кирпичи.
А жизнь меня несёт в потоке улиц.
Жизнь – это я. Песчинка, а – живу.
И лучше я в огнеупор впрессуюсь,
Чем зря себя на части разорву.
***
Самодовольный друга не поймёт,
Чужим не соболезнует тем боле,
Не поступаясь даже лишней долей,
Других обделит, а себе возьмёт.
И не заметит, как угаснет. Весь.
Клочком души, умишком злым и скудным,
И в полусне, глухом и непробудном,
Ещё нет-нет и шевельнётся спесь.
Но смертных в коммуналках и хоромах
Судьба ни разу впрок не сберегла,
И от холёных и самовосхвалённых
Останется лишь кучка барахла.
Что мне до них! Но в толчее событий
Чудовищно ловить себя на том:
Вот – не помог, не поддержал, обидел.
А что с душою станется потом?
Домой и домой
Я домой, домой хочу,
В отчий край не медля.
Я дорогу оплачу
Этих строчек медью.
Я к тебе, мой городок,
Вслед за солнцем еду.
Без оглядки на восток
Обогну планету.
Я к тебе, родной карниз,
Крашеная рама,
Где мой самый первый писк
Услыхала мама,
Где навеял первый сон
Дуб над низкой кровлей,
Где старинный дом снесён,
А вознёсся новый.
Ничего, что мне родня
Не протянет руки, –
Встретят чьи-нибудь меня
Дети или внуки,
Светом славным полыхнут
Глаз весёлых блёстки,
В память птицами впорхнут
Детства отголоски…
Ах, как дышится легко,
Как далёко старость,
Даже будто молоко
На губах осталось.
Дым отечества вдохнуть
До того полезно,
Что не тяжек дальний путь
И расходов бездна,
Всем приметам давних лет
Поклонюсь я в пояс
И тогда возьму билет
На обратный поезд,
Потому что всё равно
Надо возвращаться
В край, где сердцу суждено
Навсегда остаться.
Родина
Если Родину любишь нежнее, чем дочь,
Если имя её согреваешь дыханьем,
Если ночью глубокой и утром ранним
Крепко думаешь: чем ей, любимой, помочь?
И горишь для неё в негасимом огне,
Забывая и отдых, и сон, и усталость,
Отдаёшь ради Родины всё, что осталось, –
Это значит – недаром живёшь на земле,
Значит, верой в победу твой мозг накалён,
Твоё сердце большое клокочет вулканом.
Это значит – одетым в броню истуканам
Не забрать твою волю в проклятый полон,
Подневольной покорностью глаз не смежить,
И какая б гроза над тобой ни гремела,
Можешь глянуть в глаза своей матери смело
И сказать, что живёшь, как и следует жить.
7 ноября 1943 г.
***
Равнодушный и лукавый
К счастью истинному слеп,
И сквозь лупу ложной славы
Видит он не мир, а склеп.
И хоть нет приметных пятен
Ни на чести, ни на лбу,
И венец давно напялен –
Всё равно душа – в гробу.
Русское слово
На былинной земле северян,
У заслона лесного,
Где стоят на заставе
Озёра, тайга, урема,
Ходит-бродит в устах
Самородное русское слово – золотое наследство
Народной души и ума.
Не промыто оно
На дотошной редакторской драге,
Не попало ещё
В холощёный расхожий словник,
Этим словом, живым,
Не застывшим в казённой бумаге.
Им одним наш язык
Так свободен, могуч и велик.
А его забивает
Трескучими фразами лектор,
Выжимает учитель
Из детских голов, как лимон,
Загоняет профессор
В музейный словарь диалектов,
Академик уверенно метит
Запретным клеймом.
Но Отчизне явив,
Из своих родников напоил он
Так, что сердце за сердцем
С орлиных срывая вершин,
Вас, уральцы Бажов и Ручьёв,
Иркутянин Вампилов,
Вологжанин Рубцов
И алтаец Василий Шукшин.
Зорко глядя вперёд,
Своему языку не изменим,
Зряшных слов не ухватим
Из чужого кармана взаём,
Речь отцов подменив,
Не характер ли русский подменим?
Свой язык предавая,
Не душу ль свою продаём?