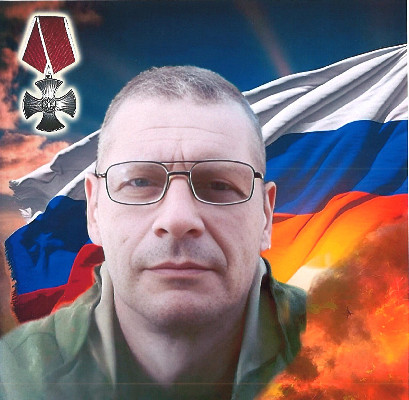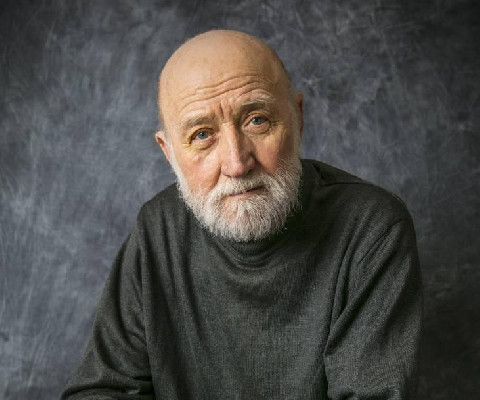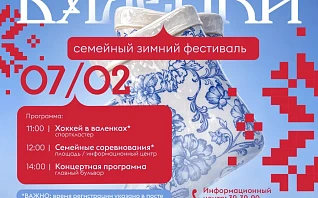Родилась Зоя Александровна в 1925 году на хуторе Сорокино Уйского района. В 1929, когда по всей стране заговорили о строительстве металлургического гиганта у Магнитной горы, её отец, погрузив на телегу семью и нехитрый скарб, отправился на Магнитострой, где отчаянно не хватало рабочих рук.
Города ещё не было даже в очертаниях, собственно, как и комбината. Зато была степь без конца и края, усеянная колышками, обозначавшими месторасположение будущих цехов, да котлованами, над которыми днём и ночью висело облако густой пыли. Оживляли картину разбросанные по огромной стройплощадке палатки и бараки. В одном из них и поселились Сорокины. Со временем главу семейства назначили начальником гаража спецавтохозяйства, его жена вела хозяйство и занималась детьми.
В 1940 году 15-летняя Зоя устроилась в мартеновский цех подсобным рабочим, но проработала недолго. Осенью 41-го после аварии, в результате которой девочка получила ожоги, её направили учеником корректора в заводскую многотиражку «Магнитогорский металл». Редакция газеты, в которую входили редактор, ответственный секретарь, посыльный и немногочисленные журналисты, в то время занимала две комнаты с окнами на завод в отдельном крыле гостиницы «Азия». Корректоры размещались в типографии, печатавшей «Магнитогорский металл» и другие газеты. Располагалась она в каменном бараке на месте завода горного оборудования. В 1942 году его отдали под нужды эвакуированного предприятия, а типографию перевели в подвальное помещение на улице Пионерской, 30. В тесных полутёмных комнатах с утра до позднего вечера царило оживление. Работники типографии изготавливали бумагу из отходов, собранных где только можно, варили резину для валиков, металл для пластин. Там же под руководством опытного корректора Анны Голубенко осваивала тонкости нового ремесла Зоя Сорокина. Довольно скоро ей доверили вычитку полос.
Печатное слово в годы войны имело особый вес, поэтому каждой букве, каждому знаку уделяли пристальное внимание.
Но человеческий глаз несовершенен, случались и ошибки. Известная южноуральская поэтесса Нина Кондратковская, работавшая в то время ответственным секретарём «Магнитогорского металла», вспоминала: «Было это в войну. Дежурила я, как обычно, в типографии. Вычитали мы с корректорами очередной номер, подписала его в печать. А под утро меня подняли по тревоге: ошибка в тексте! Я глянула и обомлела: «Бригада сталеваров сдержала слово, выдала три тысячи тонн стали сверх плана для удара по фашистам». В слове «стали» – грубая опечатка! Я – в горком партии к Абраму Каганису. Он не медлил. «Цензор тираж видел?» – «Нет» – «Бегом собирай свою бригаду. Печатники шилом пусть прокалывают эту «р», да ни одну страницу не пропускают. Корректоры пусть подготовят распечатку полосы и якобы внесут исправление. А цензуру я сейчас приглашу на совещание». По счастью, эта история закончилась хорошо, хотя в условиях военного времени могла привести к серьёзным последствиям, но для всех участников она стала уроком на всю жизнь. И даже через тридцать лет, работая в цехе технологической диспетчеризации, Зоя Александровна строго и придирчиво контролировала выпуск каждого номера, читая его от первой до последней строки, чтобы не допустить орфографических, пунктуационных или технических ошибок.
В 50-х годах типографию перевели на территорию комбината. В 60-х она вошла в состав цеха технологической диспетчеризации ММК. Зоя Сорокина трудилась корректором на участке репрографии и типографских работ. Она щедро делилась знаниями и опытом с молодыми коллегами и была для них примером во всём, будь то работа или отношение к людям. Многие её уроки они пронесли через всю жизнь. Любимой профессии
она отдала более сорока лет, обеспечивая грамматическую безупречность и фактическую точность тысяч материалов – газетных полос,
документов, книг.
– С Зоей Александровной я познакомилась в 1977 году, когда устроилась в ЦТД. Мне было 23 года, ей – на тридцать больше, – вспоминает Лариса Ефимовна Коваленко. – В штате было шестеро корректоров.
Мы вычитывали не только «Магнитогорский металл», но и всю печатную продукцию комбината: инструкции, письма, приказы – всё шло через нас.
Сейчас ошибкам – грамматическим, пунктуационным, орфографическим – не уделяют такого внимания, а тогда это было очень ответственно. Работа корректора нудная, дотошная, не для молодых. Ты целый день читаешь и правишь тексты или выступаешь в качестве подчитчика – вслух читаешь материал, а другой корректор его проверяет. Нам казалось, что мы грамотные, всё знаем и понимаем. Зоя Александровна всегда учила перепроверять себя, обращаться к справочникам и энциклопедиям, отмечать тончайшие нюансы. Нам это не всегда нравилось, вызывало раздражение, но в результате её подход к делу позволил выработать грамотность на уровне автоматизма. Даже сейчас, читая какой-либо текст, мысленно исправляю огрехи, которые цепляет глаз.
Основательность и ответственность были отличительными чертами характера Зои Александровны. К ней прислушивались, у неё учились. Подтянутая, строгая, одетая по-советски, без излишеств, она и внешне походила на учителя, но при этом никогда не скатывалась до нотаций и нравоучений. Достаточно было одной фразы, чтобы человек задумался над своим поведением, посмотрел на себя со стороны.
– В коллективе Зою Александровну очень уважали, – подчёркивает Лариса Ефимовна. – Она из тех людей, которых называют учителями и вспоминают с благодарностью за тот след, что они оставили в твоей жизни.
– Вспоминаю Зою Александровну только добром, – отмечает бывшая коллега по ЦТД Зоя Матвеевна Репринцева. – И не только как шефа-наставника по работе, но и как порядочного, чуткого, отзывчивого человека. Мы проводили вместе много времени и, конечно, говорили не только о работе. Она была немногословной, но мы всегда чувствовали её участие, поддержку. Это было своего рода воспитание, мы ведь были молодыми, порывистыми. Считаю, нам очень повезло, что рядом с нами был такой человек.
Зое Александровне посчастливилось работать со многими известными журналистами и писателями. Она правила сборники стихов поэта Александра Павлова, сотрудничала с главным редактором «Магнитогорского рабочего» Валерием Кучером.
В памяти людей она осталась примером высокого профессионализма, творческой дисциплины, принципиальности и неравнодушия.