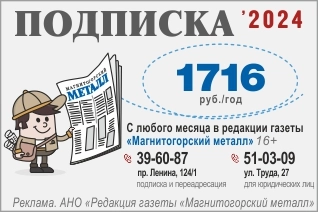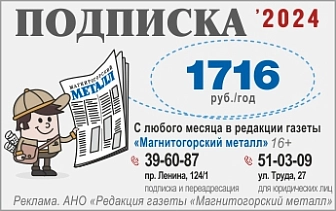Все люди разные. Не хорошие и не плохие. И педагоги. И дети. Если бы все мы были под одну гребёнку, общество было бы бедным, а жить было бы не интересно. Вроде бы любой с этим согласится. Но почему тогда воспитатели и учителя порой хотят именно этого: чтобы все дети, как один, были покладистыми, внимательными, успевающими, понимающими с первого раза и никогда не перечащими указаниям взрослых?
Уже давно у меня назрела идея поговорить о детях, которые выпадают из общего строя, ведут себя не как все, в противовес тому, что от них ожидают. Можно называть их в зависимости от стиля поведения по-разному: непослушные, хулиганы, упрямцы, выдумщики. Это далеко не всегда драчуны и двоечники. И не всегда растущие в неблагополучных семьях – в данном случае как раз-таки понятны истоки агрессии, желание привлечь к себе внимание, что-то доказать. Зачастую семья обычная, мама и папа ребёнком занимаются, интересуются, как он живёт вне дома – в учебном заведении, на улице, кто его друзья. Но к малышу или подростку всё равно есть вопросы у педагогов, у него сложные отношения со сверстниками. И, как следствие, конфликты разного уровня.
Примеры, которые я приведу в статье, не вымышленные. Они имели место быть несколько лет назад, недавно или списаны с сегодняшних жизненных ситуаций. Называть конкретные учреждения образования и имена героев не вижу смысла. Но с оговоркой: информация о самом свежем и остром случае доведена до руководства городского управления образования, и очень надеюсь, что меры будут приняты.
Чем сложнее мир, тем сложнее характеры
Кажется, в советские времена ладить с детьми было проще: все шагали дружно в ряд, а если и были в коллективе один-два «чуда», а они были обязательно, на них можно было влиять. За последние десятилетия мы получили свободу, новые технологии, узнали много о своих правах. И новое поколение, конечно, отличается от нас. Замечали, что среди детей есть такие, к которым вполне применима фраза «страх потеряли»? Они отчаянные, ничего не боятся, в том числе родительского наказания за двойку или немытую посуду.
Таким растёт семиклассник Виталий. Получил четыре или пять – хорошо. Кол или два? Ну и ладно. Будет двойка за четверть? И пусть. Родители могут с пеной у рта доказывать, что он не прав, отбирать у него телефон и компьютер – как с гуся вода. Гулять он не ходит, может просто лежать на диване, смотреть в потолок и получать удовольствие от ничегонеделания. Наслаждается моментом. Может нахамить маме, и порой даже довольно жёстко – взрослый же. Даже тумаки, которые порой получает, не приводят надолго в чувство. В школе, в которой учился раньше, были конфликт за конфликтом. Одноклассники откровенно издевались: он мог встать и уйти посреди урока, ничего не писать – «не хочу потому что». А его малоподвижность, приведшая к излишней упитанности, добавляла поводов для насмешек. В итоге пацан начал огрызаться, давать сдачу. И конечно, всегда был виноват – зачем взрослым искать первопричину, когда проще осудить за действие. Пришлось по знакомству переводить в другую школу. Второй год – ни одного конфликта, хотя поначалу не всё было гладко. Появились друзья, победы на конкурсах по информатике. И хотя в школу приходится ездить несколько остановок, прогулов, уходов с занятий не было. Тот же ребёнок, но другой коллектив – в первую очередь, педагогов.
Роме скоро четыре года. Он единственный малыш в семье. Его, конечно, обожают, но не балуют – не принято. Как и не сюсюкаются, потому что привыкли разговаривать взрослым языком, ведь он хоть и маленький, но человек. Мальчишка не паинька, ручки на коленочки сидеть не станет. Бывает, проявляет жадность – не даёт другим свои игрушки. Хотя конфетой поделится. Может быть упрямым и капризным, шумным и излишне энергичным. Порой так разбегается, что не остановить. Но при этом может по полчаса лепить, рисовать, собирать конструктор. Поэтому заявление психолога, что мальчик неусидчив, удивило. А другое: «Он балуется на музыкальных занятиях, встаёт, прыгает, а то и вовсе уходит» – удивило ещё больше, потому что Рома любит музыку, с лёту схватывает любую мелодию и напевает её, даже если она на иностранном языке. Годом раньше та же психолог отправила мальчишку на комиссию для перевода в специализированный садик – мол, не разговаривает, да и по другим показаниям явно отстаёт в педагогическом развитии. На комиссии родителей «с позором» выгнали: «Ваш ребёнок, напротив, опережает сверстников. А говорение – дело времени». Через два месяца мальчик начал говорить, причём сразу связным текстом. Теперешние претензии частично имеют основание, но утверждение, что он чуть ли не отъявленный хулиган, явно преувеличено и сильно попахивает желанием избавиться от ребёнка: «Вы же в другой садик хотели переводиться, очередь не подошла ещё?»
Семиклассник Семён тоже неугодный, или неудобный для учителей ребёнок. Добрый, отзывчивый парень виноват в том, что слишком активен. Да, иногда слишком: на уроке болтает, и не всегда по теме. Пять лет проучился в одной школе, но родители были вынуждены перевести в другую. Но и здесь не задалось: не получился контакт с классным руководителем, которая настолько не справляется с Семёном, что срывается на истерики. И постоянно дёргает родителей. Мама мальчика – врач-терапевт, которая все последние месяцы спасает жизни тем, кто заболел коронавирусом, работает в сумасшедшем ритме, а тут ещё из школы звонят. После того как сын однажды спросил: «Для чего я живу на свете? Почему всем мешаю?», родители всерьёз испугались депрессии.
Мама мальчика рассказала, что он трудно появился на свет и две недели был на грани жизни и смерти. И с детства ведёт себя так, будто выживает. Он и дома шустрый и порой непослушный, но все знакомые отмечают, что ведёт себя по-взрослому: ответственный, всегда поможет. Его главное увлечь. Почему дома это один ребёнок, а в школе – другой, недоумевают родители. Но ладно бы только это. По оговору одноклассников Семён прослыл чуть ли не наркоманом. И произошёл случай из ряда вон: классный руководитель вместе с директором устроили пацану шмон по карманам – искали улики. Вызвать родителей не догадались – те пришли потом сами. И спросили: на каком основании был обыск без них? После этого ситуацию спустили на тормозах. Но предложили перевести школьника в другой класс, которым руководит физрук-мужчина. Теперь одна надежда на то, что он найдёт подход к сложному подростку.
Что же делать с такими ребятами?
Не ставить же на них сразу клеймо неисправимых плохишей. Как влиять на ситуацию? Об этом мы побеседовали с доктором психологических наук, академиком МАПН Ульяной Зиновой:
– Сегодня, как и прежде, учитель не должен давлением, голосом заставлять воспитанника заниматься. Это ошибочный путь. Только знанием, развитием, гуманным отношением. Если ребёнок плохо учится или ведёт себя, значит, педагог не нашёл к нему ключик. Ученик может вести себя активно, вскрикивать, но при этом слушать, быть в процессе. А может быть так, что ребёнок молчалив и спокоен, но «находится» в этот момент где угодно, только не с преподавателем. Во втором случае как раз и нужно заинтересовать, завлечь изучаемой темой, проблемой, которая поставлена. Увы, не все педагоги это умеют, не всем это интересно и не каждому дано. Согласна с Шаталовым, который утверждает: нужно создавать благоприятную среду. Сделать это можно только в случае, если в школе работают педагоги, способные понять и увлечь любого ребёнка. Тогда будет успех. Если же в коллективе преобладают авторитарные учителя, то дети будут подчиняться крику, но гуманного учителя не воспримут. Получается, сегодня и дети другие, и педагоги. Но ребёнок должен проявлять свою индивидуальность, его не надо ломать под себя, это неправильно.
При этом Ульяна Александровна повторяет известную истину, которую, к сожалению, многие работники школы отказываются воспринимать: всё зависит от педагога. Почему проблемный ребёнок переходит в другую школу и становится другим? Да не становится, он прежний – попадает в другую среду, где его иначе воспринимают. И там, где в образовательном учреждении создана благоприятная среда, в которой уважают маленького человека, помогают ему комфортно выбраться из сложной ситуации, а не объявляют изгоем, там он и проявляет свои лучшие качества. Это, кстати, касается и выбора школы, в которой есть определённый уклон: не надо насиловать подростка нестандартной программой обучения математике, если он гуманитарного склада. В старших классах выбирать уже поздно, сейчас всё идёт к ранней профориентации, и это правильно. То же самое применимо к детям-спортсменам: к ним нужен особый подход. И это вовсе не послабление в учёбе, снисхождение за пропуски, а совершенно особая система обучения.
Очень многое зависит и от руководства школы. Согласитесь, никогда в жизни классный руководитель не позволил бы себе применять агрессию по отношению к ученику, если бы этого не позволяли завуч и директор. Неспроста в последние годы в средних образовательных учреждениях идёт ротация управленческих кадров. Даже лучшие из лучших директора порой не могут вылезти из привычной авторитарной скорлупы, отойти от советских методов воздействия. Есть и такое понятие, как профессиональное выгорание.
Взрослый – это не про возраст
Никто не спорит: учитель тоже человек, со своими житейскими проблемами и перепадами настроения. Но педагог должен понимать, с каким материалом ему приходится работать, какая ответственность на нём лежит. Если преподаватель встаёт в позу, обижается на ребёнка, это удивляет: кто из вас взрослый-то? Ребёнок ведёт себя по определённой модели поведения, взятой из семьи, класса. Так покажите ему, как можно по-другому.
– Если у ребёнка возникают системные конфликты, которые не удаётся разрешить, советовала бы его перевести в другую школу, в более комфортное пространство, – выразила мнение Ульяна Зинова. – Это не всегда оптимальный вариант, но самый простой. Часто сами родители не заинтересованы в таком решении. Даже советуют учителям быть построже. И тогда школьник будет искать среду, где его поддержат, – среди таких же «нестандартных», неустроенных, как он сам. В школе третируют, социальный статус низкий, в семье не понимают – он найдёт выход. Только не окажется ли этот выход хуже, чем смена коллектива?
Практика показывает, что смена среды, как правило, срабатывает ещё и потому, что изначально оговариваются все возможные проблемы, ребёнок настраивается на позитивное развитие событий. Сегодня так часто в школе говорится не о воспитании, а об оказании услуг. Но ведь как не подменяй понятия, воспитательные моменты неизбежны. Чуть ли не с первого класса малышню учат работе, направленной на решение конкретных задач, достижение поставленной цели. И называют это проектной деятельностью. Но ведь и каждый ребёнок – это проект, который должен реализоваться в гармонично развитую личность. И как тут не обратиться к классику педагогики Антону Макаренко, который сказал: «Хорошее в человеке приходится проектировать, и педагог это обязан делать». Этому высказыванию больше ста лет, но оно по-прежнему актуально.