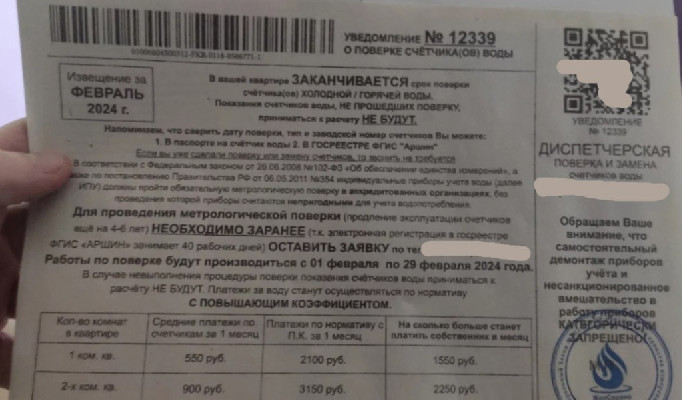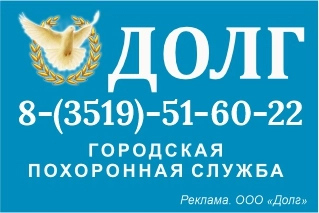Напомним, начиная с 4 октября, в парке Притяжение каждую субботу в 12.00 проходят научно-просветительские лекции из цикла «Магнитные истории». Посетить их может каждый желающий, причём абсолютно бесплатно. Очередную встречу провела кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории МГТУ имени Г. И. Носова Нина Чернова. В этот раз говорили об иностранцах, участвовавших в строительстве Магнитогорска и ММК.
В конце 20-х–начале 30-х годов в СССР начался период «великих строек социализма». Советское правительство понимало: без привлечения иностранной технической помощи и специалистов реализовать столь масштабные задачи в короткое время будет сложно. В Европе в это время бушевал экономический кризис, поэтому иностранные рабочие и специалисты охотно ехали в СССР, где за их знания предлагали хорошую цену. Многие приезжали в Россию не только за длинным рублем, но и с глубокой симпатией к первому в мире пролетарскому государству, они надеялись, что их производственный опыт может пригодиться русским рабочим.
Большое количество иностранцев – выходцев из США, Центральной и Восточной Европы, Балкан, Скандинавии – прибыло на Магнитострой для строительства крупнейшего в мире металлургического предприятия. Интернациональная бригада Магнитостроя оказалась самой многочисленной среди строек первых пятилеток. С 1931 по 1937 годы в Магнитогорске трудились около тысячи иностранцев. Большую их часть составляли немцы.
– Массовый приезд иностранцев по договорам с советскими торгпредствами и иностранными фирмами для монтажа и пуска ключевых объектов пришёлся на 1930–1931 год, – начала рассказ Нина Чернова. – С ними заключали контракты на один-два года, часто с валютными выплатами.
Причины приезда были разные, отмечает лектор: командировка от фирмы-работодателя, централизованное распределение в СССР, перевод с других советских строек, профессиональный интерес, идеологические причины. Разнились и условия, на которых иностранцы соглашались работать на строительстве ММК и Магнитогорска.
Условно можно выделить три группы иностранцев, трудившихся на Магнитострое.
«Фирменные» специалисты – высококвалифицированные инженеры, шеф-монтажники и мастера – были командированы в СССР непосредственно промышленными концернами для монтажа, наладки и пуска конкретного оборудования, которое эти фирмы поставили по контракту. Это была своего рода техническая аристократия, слово которой было решающим, когда дело касалось оборудования.
– Зарплата их состояла из двух частей: солидный рублёвый оклад в СССР и основная часть – валютная, которая переводилась на счета в Германии самой фирмой, – отметила Нина Чернова. – Компания гарантировала им лучшие условия. Проживание в гостинице или посёлке Берёзки, питание через инснаб. Возникающие у них проблемы старались решить быстро, так как это бросало тень на репутацию комбината перед фирмой.
В группу валютных специалистов по индивидуальному договору входили инженеры, технологи, архитекторы, имеющие особую квалификацию и нанятые на ключевые должности по персональным договорам. Их ценность заключалась в уникальных знаниях и опыте. Получали они рублёвый оклад и фиксированную валютную составляющую, что свидетельствовало об их особом статусе. Таким специалистам предоставляли лучшие квартиры с мебелью и прислугой. Зачастую они находились в сложных отношениях с иностранным отделом и руководством комбината, которые могли пересмотреть договор и урезать валютные выплаты.
Самую массовую и разнородную группу иностранных специалистов составляли техники, слесари, сварщики, электрики, нанятые через торгпредство или «Интурист» на стандартных условиях договора, без валютных выплат. Их работой полностью управлял иностранный отдел комбината. Зарплату они получали в рублях. И хотя она была выше, чем у их русских товарищей, эту разницу съедали трудности со снабжением. В бытовых вопросах находились на положении обычных работяг, а их жалобы на жильё, организацию труда рассматривали с огромной задержкой.
– Проживали безвалютные специалисты в бараках, где были проблемы с отоплением и водой. Получение заборной книжки в инснабе было для них жизненно важным, – продолжила рассказ Нина Чернова.
Многие иностранцы привозили на Магнитострой семьи. Статус жён рассматривался как «приложение к договору» мужа. На родине практически все они были домохозяйками, новые условия жизни заставили пересмотреть прежние установки. Некоторые женщины по личной инициативе устроились на работу: копировальщица в проектном управлении, заведующая иностранной литературой в библиотеке, парикмахер, секретарь, фрезеровщица. В целом же их профессиональная реализация была сильно ограничена.
– Снабжение семей иностранцев шло через спецраспределители инснаба. Жёны и дети получали продукты по заборной книжке главы семейства, – отметила Нина Чернова. – При отъезде, увольнении или смерти мужа женщины мгновенно утрачивали средства к существованию и право на проживание.
Не все иностранные специалисты смогли приспособиться к советской действительности и через некоторое время вернулись на родину. Инженер-керамик Альфред Зейгер уехал из-за отказа выплачивать ему часть оклада в германских марках. Эрнст Зецефант жаловался на невозможные условия проживания: его семье выделили одну кровать на четверых, а Отто Колла и Альфред Келлер страдали от сурового уральского климата, который усугубил имеющиеся у них заболевания. Юлиус Розин после завершения срока договора отказался его продлевать, сообщив, что «В Германии плохо, но я всё равно уеду».
Многие иностранцы, несмотря на трудности, хотели остаться в СССР если не навсегда, то надолго.
Например, Иоган Краль «желал работать в СССР», потому что в его родной Австрии была безработица. А Карл Кассель и Отто Кестнер в качестве аргументов высказывали стабильный заработок и социальные гарантии, которые им гарантировали на «стройках социализма». Члены компартии Германии или политэмигранты, такие как Рудольф Кеглер и Альфред Келлер, хотели остаться в «государстве рабочих», а Отто Кола ходатайствовал о советском гражданстве, потому что женился на русской женщине. В качестве причин указывались также воссоединение с родственниками, уже работавшими в СССР, и желание работать по специальности в условиях масштабных строек.
Период завершения контрактов и организованной репатриации пришёлся на 1936–1938 годы. Иностранным специалистам оформили визы, проездные документы и проводили на родину. К этому времени основные строительные работы завершились и надобность в их помощи отпала. Кроме того, работая на Магнитострое, они занимались подготовкой советских рабочих, что привело к изменению кадровой политики.
После лекции кандидат исторических наук Нина Чернова ответила на вопросы собравшихся. В завершение встречи желающие смогли ознакомиться с двумя уникальными изданиями знаменитой книги «За Уралом: американский рабочий в русском городе стали». Автор книги Джон Скотт – один из участников легендарной истории, которую создавали у горы Магнитной миллионы людей разных национальностей.