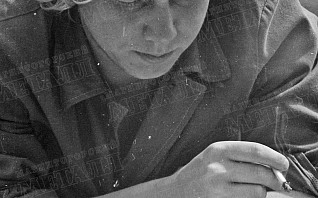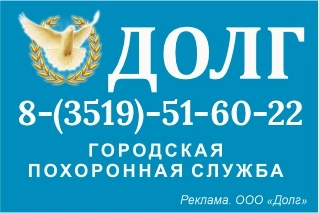В 1940 году, отслужив в армии, Калистрат Михайлов устроился техником в аэроклуб. В первом для него наборе курсантов запомнились многие, но особенно Иван Павлов. «Когда поступают к нам ребята, – рассказывал Калистрат Сергеевич корреспонденту Т. Никифоровой, – присматриваешься к ним и сразу замечаешь тех, кто пришёл не за приключениями, а всерьёз. Так вот, Павлова мы приметили сразу – собранный, спокойный, целеустремлённый. По тому, как он ловил каждое слово инструктора, как быстро и точно всё схватывал, мы чувствовали: парень задумал стать лётчиком, готов всё преодолеть, только бы добиться своего. По рекомендации инструктора Василия Григорьевича Коробейникова его назначили старшиной группы курсантов».
По воспоминаниям многих, Иван был очень способным. На теоретических занятиях усваивал всё быстро, а потом помогал подтянуться другим. «Очень ему хотелось, – вспоминал Калистрат Сергеевич, – поскорее начать летать. Он всегда помогал мне самолёты готовить. Бывало, только намекнёшь, побежит куда нужно, принесёт, поможет. Ну и в руки он попал надёжные. Коробейников был редким инструктором, знал своё дело замечательно и, главное, умел понимать курсантов. У некоторых лётчиков любой промах вызывает раздражение. С Василием я прошёл всю войну, после возвращения мы опять вместе работали в аэроклубе, и я не помню случая, чтобы он был резок, нетерпим с молодёжью. Так вот, Вася сразу заметил, как далеко, по сравнению с другими, ушёл Иван, и чувствовал: нельзя сдерживать парня. Он понимал, что, если всё отлично усвоил курсант, тянуть не надо: скиснет человек от нетерпения, настроение будет уже не то. Поэтому Ивана Павлова мы первым из группы выпустили в самостоятельный полёт, хотя и мало он полетал с инструктором. Видел Вася, когда возил его: парень чувствует себя в самолёте уверенно, поправлять его приходится мало. И стал наш Иван летать самостоятельно».
Припомнил Михайлов и такой случай. Павлов уже летал в зону, знал все пилотажные фигуры, доступные По-2, и всё спрашивал у инструктора, как выполнять «бочку». Тот объяснял, думал, что курсант интересуется чисто теоретически. «И вот, – продолжал Калистрат Сергеевич, – возвращается как-то Иван из зоны, мы следим за ним и видим, как он что-то выделывает с самолётом, но ничего у него не получается. После посадки спрашиваем, что случилось. Оказывается, «бочку» хотел сделать. Мы рассмеялись. Какая же «бочка» на По-2! На нём такой фигуры не сделаешь. Павлов это знал, но попробовать всё-таки решил – надо же самому убедиться». Выпускной экзамен Иван сдал на отлично. Представители Оренбургского лётного училища, приехавшие проверять ребят, отобрали лучших. Павлова оценили сразу, и он отбыл вместе с другими. Было это в конце 1940 года. А потом началась война.
В копии личного дела, присланного по просьбе военкомата из Министерства обороны СССР и разысканного Т. Никифоровой, собраны документы, относящиеся к годам военной службы Ивана Фомича Павлова: автобиография, аттестационные материалы, наградные листы.
После окончания в июне 1942 года Чкаловской военной авиационной школы (училища) в Оренбурге Павлов воевал в составе шестого гвардейского штурмового авиаполка 3-й воздушной армии Калининского фронта, переименованного затем в 1-й Прибалтийский фронт. Обстановка была сложной. Штурмовики Ил-2 разведывали вражеские позиции, корректировали огонь артиллерии, штурмовали скопления техники и живой силы. Фашистское командование направило сюда Ме-109 с лучшими асами из группы «Бриллиантовая молодёжь». Немецкие истребители базировались на аэродромах-засадах, где подкарауливали советских штурмовиков.
Как-то, разгромив немецкий штаб, штурмовая группа, в которую был включён Павлов, при возвращении домой наткнулась на засаду «бриллиантов». Иван атаковал одного из них, и тот, не успев набрать высоту, врезался в землю. Но, увлёкшись, лётчик не заметил, как сам попал в «клещи» четырёх асов. Подойдя вплотную, один из них подал знак: «Садись на наш аэродром». – «Я тебе сяду!» – погрозил кулаком Павлов и, неожиданно для всех, камнем рухнул вниз, после чего перешёл на бреющий полёт. Такого маневрирования и искусного владения мощным бронированным самолётом фашисты не ожидали, а Иван тем временем под носом врага невредимым ушёл на свой аэродром.
Удача ему сопутствовала. Фронтовой корреспондент Борис Шуканов писал: «Гвардии старшина Павлов является лучшим «охотником» в части.
За короткий срок он совершил 69 боевых вылетов, уничтожил 57 автомашин, 17 железнодорожных вагонов с боевой техникой противника, разрушил восемь дзотов, вывел из строя восемь танков, подавил огонь двадцати пяти пулемётно-зенитных установок».
На фронте у него постепенно выработался свой стиль. Отправлялся ли он в разведку, бомбил ли укрепления фашистов или атаковал колонны танков и автомашин, всегда его действия были продуманными и приносили неизменный успех. За это его постепенно повышали в должности и в 1944 году назначили командиром эскадрильи.
Возвращаясь как-то с боевого задания, Иван увидел на стоянке толпу. Люди махали ему руками, что-то кричали. После выключения двигателя его подхватили и стали высоко подбрасывать. «Подождите! – взмолился лётчик. – Скажите хоть, за что штурмуете?» – Друзья хором прокричали: «Поздравляем со званием Героя Советского Союза!»
Теперь Павлов, чувствуя свою ответственность, брался за выполнение самых сложных заданий. В боях проявились способности лётчика, показавшего себя отважным штурмовиком, умелым разведчиком и доблестным командиром. 15 августа 1944 года группа в составе семи Ил-2 во главе с Иваном Павловым была встречена двенадцатью «Фокке-Вульф-190» и восемью Ме-109. Во время неравного боя фашисты потеряли четыре самолёта. Остальных советские лётчики заставили позорно покинуть поле боя.
Как-то во время одного из воздушных боёв его самолёт попал под мощный зенитный обстрел. Машина загорелась. С трудом преодолев линию фронта, Иван приземлился на своей территории. Выскочив первым, стрелок Мамырин увидел, что командир не может открыть заклиненный фонарь. А пламя уже подбиралось к бензобакам. Ещё минута-другая – и самолет взорвётся. Геннадий бросился к пылающей кабине, сорвал фонарь и выхватил задыхающегося лётчика. Едва они отбежали, как раздался взрыв.
Фашисты безошибочно узнавали самолёт Павлова. У него имелись свои опознавательные знаки. Машина приобреталась на средства земляков, о чём свидетельствовала надпись на борту: «Земляку, Герою Советского Союза от трудящихся г. Кустанай». А по просьбе отца Павлова на плоскости крупными буквами был выведен суровый наказ: «За Русь!»
Во время Великой Отечественной войны Иван Фомич совершил 237 боевых вылетов, участвовал в Ржевско-Сычёвской, Великолукской и Смоленской операциях, в освобождении Белоруссии и Прибалтики, ликвидации Земландской группировки противника. Прошёл путь от рядового лётчика, командира звена, заместителя командира и командира эскадрильи до штурмана 6-го гвардейского штурмового авиационного полка (Калининский и 1-й Прибалтийский фронты). За отличное выполнение боевых заданий, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с врагами Родины, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года Ивану Фомичу Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза. Через год, 23 февраля 1945 года, он снова получил звание героя. Дважды ему вручали орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», а после окончания войны пригласили для участия в Параде Победы.
После завершения боёв в Восточной Пруссии штурмовой полк остался в одном из городов на побережье Балтийского моря. А в 1946 году однополчане провожали Павлова на учёбу в Военно-воздушную академию имени М. В. Фрунзе. Блестяще окончив её, Иван Фомич получил назначение на должность командира 947-го штурмового полка в Прикарпатском военном округе.
Он был молод и не успел обзавестись семьёй. Смог познать только войну и пройти через тяжёлые испытания.
Майор Павлов погиб 12 октября 1950 года, выполняя учебно-тренировочный полёт на штурмовике Ил-10. Ему было всего 28 лет.
В селе Борис-Романовка Кустанайской области, где 25 июня 1922 года родился герой, создан школьный музей. Много материалов о нём собрано в областном музее. На центральной площади города, на высоком гранитном постаменте установлен бронзовый бюст Павлова. В память о подвиге сына неподалёку от памятника был построен дом для его отца.
Имя отважного лётчика навсегда связано с историей его второй родины – Магнитки, куда он вместе с родителями приехал в 1932 году, поселившись в небольшой комнате восьмого барака на улице Сакко и Ванцетти на пятом участке. Здесь он окончил семь классов 14-й школы, три курса прокатного отделения индустриального техникума и аэроклуб, откуда начал свой бессмертный полёт.
Марина Кирсанова