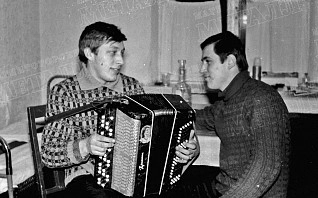ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ЛЕТ служит в нашем учреждении ЯВ-48/18 очень скромный и трудолюбивый человек с армянской фамилией Мерджаньян. Теперь ему за шестьдесят, но он продолжает трудиться, чтобы мало-мальски сводить концы с концами: пенсия мала, а жить как-то надо…
Мы часто не замечаем интересных людей, много лет работающих с нами бок о бок, вдруг, словно прозрев, отмечаем: какой же неповторимой судьбы он – товарищ твой по работе.
А судьба Багдасара Левоновича действительно особенная, напрямую связана с Великой Отечественной войной, хотя, когда она началась, ему было немногим больше года, так как он родился 29 апреля 1940 года. Он – настоящее дитя войны….
Родился в поселке Симеиз Крымской области недалеко от Ялты, а войну встретил в Керчи. Родители его были рядовыми тружениками без определенных профессий и небольшой грамотности. Отца Левона Гампаровича сразу призвали в армию, а мать Тамара Александровна с двумя детьми на руках осталась дома бедовать. Был у Багдасара старший брат Женя 1929 года рождения. Близкий родственник матери, работавший главным инженером на небольшом металлургическом заводе имени Войкова недалеко от Керчи, взял к себе двенадцатилетнего Женю, чтобы как-то облегчить жизнь Тамары с ее малолетком. Это и помогло Жене во время угона в Германию…
Мать и Багдасар жили голодно, перебивались случайными заработками, вязанием да меной вещей на продукты. Шел 1943-й год. Фашисты хозяйничали в Крыму. Блицкриг забуксовал, Красная Армия одерживала победу за победой. Фашисты напрягались, фронт требовал все больше и больше солдат. А где их брать? Только рабочих заводов, шахт, фабрик да от земли бауэров. А кем заполнять рабочие места? Тут и начала действовать программа привлечения рабов с оккупированных территорий России. Жандармы и эсэсовцы стали хватать людей прямо на улицах, вели на станцию и заталкивали в «телячьи» вагоны…
Из-за малолетства Багдасар не помнит, как это было с ним и его мамой. С ее слов знает, что посадили их в поезд в день праздника
7 ноября 1943 года. Долго ехали через Польшу, было очень холодно и голодно. Мама согревала его на своей груди. Часто пересаживали из поезда в поезд, он помнит больших дядей в сером и неистово лающих собак. Все это вселяло страх и хотелось плакать. Но мама прикрывала ему ладонью рот и шептала: «Молчи!»…
Куда и когда привезли их, Багдасар не помнит. Потом узнал, что лагерь их располагался близко к границе с Чехословакией. Мама рассказала: это был женский лагерь, некое подобие печально знаменитого Равенсбрюка. Одна из узниц вспоминала, как встречали их: «…Разгружались в темноте, всю ночь простояли во дворе лагеря. Утром началась процедура обезображивания женщин: стрижка наголо. У нас были отобраны все вещи, получили лагерную форму – полосатое платье и жакет без подкладки, деревянные колодки, косынку, рубашку и трусы. Ни лифчиков, ни поясов нам не полагалось. Холодный ветер, пронизывая насквозь, сковывал тело. Косынка не согревала, волос нет… Каждая узница имела свой номер и нашивку…»
Нашивки из лоскутов материи были на левой стороне груди, татуировки не выкалывали. В некоторых лагерях вместо нашивок были бирки из легкого металла, поделенные пополам ломким швом на верхнюю и нижнюю часть. Такая бирка была удобна в случае смерти ее обладателя: нижнюю часть отламывали и передавали в администрацию для учета… Багдасар помнит это, а до недавнего времени в семье даже хранилась фотография мамы с нашивкой на груди. Но ее забрал кто-то из газетчиков и не вернул…
Лагерь стоял на окраине, а в городе был сахарный завод. Очевидно, там и работали узницы. Однажды после бомбежки американцами города завод сгорел, и женщины принесли своим детям слитки остекленевшего от огня сахара. Они были темно-коричневыми с впекшимися внутри сажей и грязью.
– Для нас эти «леденцы» были настоящей радостью! – вспоминает Багдасар.
Каждое утро женщин уводили на работу, а дети оставались в зоне: их было не очень много – не у каждой женщины. Наступало время врачей. У ребят регулярно брали кровь и делали какие-то уколы под левую ключицу. Что за эксперименты проводили фашистские врачи, никто не знал. Не знают и теперь…
– У меня на месте уколов образовался шрам в виде ямки, – вспоминает Багдасар. – Кровь брали из вены, делали это почти каждый день. Меня как-то хотели отобрать у мамы. Волосы у меня на голове были черные, с завитушками, брови тоже черные. Немцы тыкали в меня пальцами, говоря: «Юде, юде!» Маме удалось их убедить, что я не еврей, и они отстали…
Близился конец войны, американцы продолжали бомбить город. Перед налетом охрана разбегалась по укрытиям, выходы оставались открытыми, и узницы убегали за зону, хотя американцы никогда не бомбили лагерь.
Как-то в теплый и солнечный апрельский день на той стороне реки, где лагерь, появились машины с солдатами и многозвездными флагами. Их появление было неожиданным как для узниц, так и для охраны. Поняв, что пришли освободители, женщины набросились на охранниц и изрядно их потрепали. Больше всех досталось хозяйке лагеря по прозвищу Белка – женщине жестокой, без капли милосердия. Ее сдали американцам…
Освободители увезли узниц и их детей на машинах в помещения какого-то аэродрома, где содержали несколько дней: хорошо кормили, дали отдохнуть. Потом отвезли на станцию железной дороги к нашим. Грузили в такой же товарняк, как и тогда, в 1943-м. Опять ехали долго, холодно и голодно. И вот снова – Керчь. Порядок был такой: «Откуда взяли узников – туда и вернуть!» Надеялись встретиться с мужем-папой Левоном Гампаровичем. Но дома его не оказалось. Грустная обстановка сложилась тогда в послемайском
45-м для Мерджаньянов. Впрочем, как и для сотен тысяч других россиян. Отец не знал, живы ли его жена и сын, а они думали, что солдат сложил где-нибудь свою голову. Не шутка ведь – четыре года на войне! Но солдат вернулся живым, хотя и был ранен, а грудь его украшали медали за взятие Будапешта и Вены, и самая главная медаль – «За отвагу». Приехал солдат домой, а там – никого. Узнал только, что жену с малолетним сыном угнали в Германию. Подождал немного – и подался в Сухуми, где жили его мать, сестра и брат. Все это узнали жена с сыном в Керчи. Надо бы скорее к мужу и отцу, да власти не пускают: сначала должен поступить вызов от мужа. А главное – органы НКВД не дают добро до окончания оперативной проверки: а вдруг мать с ребенком были прислужниками у нацистов?..
Но вот получена справка: «Мерджаньян Тамара Александровна, 1912 года рождения, содержалась в лагере, работала чернорабочей.
13 апреля 1945 года освобождена из плена. Компрматериалами на Мерджаньян Т. не располагаем»… Однако волокита тянулась до начала 1947 года. Наконец-то семья воссоединилась. Недолго прожили в Крыму, попытались обжиться возле брата Тамары под Симферополем, а когда не получилось – главным образом, из-за неустройства быта – уехали в Магнитогорск да, так здесь и осели, вписав свою фамилию в ряды тружеников калибровочного завода. В Магнитогорске Багдасар Левонович окончил школу и индустриальный техникум, здесь похоронил своих близких: отца, мать и брата. По фамильной традиции стал работать на «калибровке», в 1969 году по вызову уехал в Темрюк на пуск первого литейного цеха бригадиром. В 1970-м вернулся в Магнитку и устроился производственным мастером в ИТУ-18. В январе 1990 года вышел на пенсию с должности заместителя начальника рессорного цеха…
Прошли годы. Не сглаживается в памяти трагедия детских лет. Не вычеркнуть прошлое, оно прицельно бьет из тех далеких сороковых – годов фашистского плена, оставившего свои зарубки на теле и в крови. А еще… семью Багдасара Левоновича преследует рок: его дети и внуки рождаются глухими, становясь инвалидами с детства. Это травмировало и травмирует всех: больные дети – от здоровых родителей. Хождение по клиникам ничего не проясняет. Только научно-исследовательский институт Ленинграда, который тогда был на Васильевском острове, «успокоил»: «Вы по Союзу не одни такие. Знаем, что в Германии кололи детей, а что вводили – не знаем. Диагноз – атрофия слухового нерва»… Так фашизм мстит до сих пор за свое поражение ни в чем не повинным детям детей войны.
– Хочется, чтобы люди знали и помнили о той невиданной людской трагедии, которую принес фашизм, – говорит Багдасар Левонович. – Иные стали забывать, что это такое, и даже сожалеют: не лучше ли было покориться и отдаться в его руки?»…
В сердце отозвались слова недавно попавшей Багдасару в руки «Песни фашистских невольниц», прочитанной в книге «Песни узников». Эта песня – плач и мольба – родилась там, в Германии, где он с наслаждением лизал черно-коричневый сахар, пополняя свою отравленную кровь будущей горькой памятью:
«Далекий мой, пора моя настала.
Я карандаш последний раз беру.
Кому б моя записка ни попала,
Она тебе писалась одному.
Родимый мой, любимую веснянку
Нам не певать в веселый месяц май.
Споем о том, как девушку Татьянку
Вели в неволю в чужедальний край…
Споем о том, как завтра утром рано
Пошлют ее по скорбному пути…
Прощай, родной, забудь свою Татьяну,
Не жди ее, но только отомсти.
Скажи, родной, что может дать рабыне
Чугунная немецкая земля?
Наверно, на какой-нибудь осине
Уже готова для меня петля.
А может, мне валяться под откосом
С разбитой грудью у чужих дорог?
И по моим по шелковистым косам
Пройдет немецкий кованый сапог?
Прощай, родной, забудь про эти косы,
Они мертвы, им больше не расти.
Забудь калину, на калине – росы,
Забудь про все, но только отомсти.
Ты звал меня своею нареченной,
Веселой свадьбы ожидала я…
Теперь меня назвали обреченной,
И молодость погублена моя.
Пусть не убьют меня, не искалечат,
Пусть доживу до праздничного дня,
Но и тогда ты не ходи на встречу –
Ты не узнаешь все равно меня.
Все, что цвело, – затоптано, увяло,
И я сама себя не узнаю.
Забудь про то, что как любил, бывало,
Но отомсти за молодость мою.
Услышь меня за темными лесами:
Убей врага, мучителя – убей!
Письмо тебе писала я слезами,
Печалью запечатала своей.